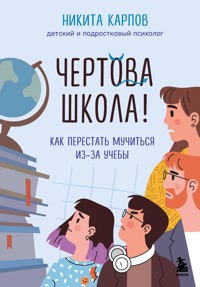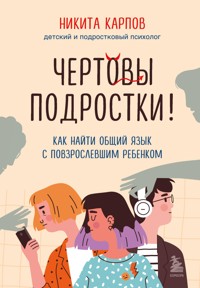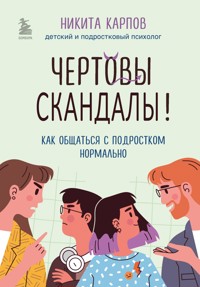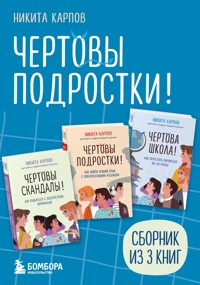
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Бомбора
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
В своей серии книг Никита Карпов помогает родителям справиться с трудностями взросления детей, предлагая эффективные стратегии общения и решения типичных проблем: • Построение доверительных отношений даже с самыми бунтарскими подростками • Решение проблем с успеваемостью и поведением в школе • Преодоление конфликтов с одноклассниками и учителями • Работа с тревожностью и чувством вины родителей • Помощь в формировании реалистичных планов на будущее • Грамотная реакция на поздние возвращения и вызывающее поведение. В книгах представлены профессиональные техники и методики, а также контрольные вопросы, которые помогут начать действовать уже сейчас. Особая ценность серии в том, что она помогает родителям увидеть в периоде пубертата не только сложности, но и возможности для развития крепких, доверительных отношений с ребенком, превращая непростое время взросления в интересное и продуктивное для обеих сторон.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Никита Карпов Чертовы подростки! Сборник книг Никиты Карпова
© Карпов Н., текст, 2024
© Гладких О., обложка и иллюстрации, 2024
© Оформление. ООО "Издательство "Эксмо", 2025
* * *
Чертовы подростки! Как найти общий язык с повзрослевшим ребенком
Введение
«Отстань, а!» Поверьте, рано или поздно каждый из нас услышит эту фразу. Больно как в первый раз, так и в сотый. Но именно это четкий показатель того, что ваш ребенок – уже не ребенок. Но еще и не взрослый. Он – подросток.
Подростковый возраст ребенка всегда гарантирует нам, родителям, несколько лет очень веселой жизни. С американскими горками эмоций, неизведанными тревогами и большим количеством конфликтов по любому поводу.
Теперь детская – не детская, а Сектор Газа. Во всех смыслах. А его кроссовки уже 45-го размера и дурно пахнут. И валяются посреди коридора. Из еды – чипсы и сладости. Из хобби – гаджеты и потусить.
Как бы мы ни пытались пообщаться с этими удивительными существами, чаще утыкаемся носом в закрытую дверь. И в прямом, и в переносном смысле.
Что ж, давайте разбираться, каким образом пережить этот чудный возраст, не прибить своего подростка и, крайне желательно, не всадить все семейные сбережения на новопассит и винишко.
Меня зовут Никита Карпов. Уже 19 лет я работаю с подростками. Правда, первый мой опыт такого рода был не очень содержательным: я караулил гопников в подростковом клубе. В неблагополучных районах это место, где зимой греются уличные пацаны и девчонки. Присматривая за ними, я их реально побаивался.
Став профессиональным психологом, за все время деятельности я пообщался с несколькими сотнями ребят от 11 до 19 лет. Имел дело с попытками суицида, депрессиями, плохой учебой, «не знаю, чего хочу», «достали родители», «не понимают одноклассники»; помогал справиться с проблемами зависимости, агрессией, селфхармом[1] и еще кучей всего.
Чаще всего подростков ко мне (или другому психологу) приводили родители. Но были и ребята, которые сами хотели сделать свою жизнь лучше.
Вот что я понял давно и во что верю сейчас: мне реально интересно общаться с теми, кто еще не стал окончательно «взрослым». С людьми, у которых чуткая душа и крайне глубокие мысли.
Во время консультаций я отвечаю на вопросы подростков. Часто это крутые и… неудобные вопросы. И мне очень жаль, что обычно родители не видят, как могут мыслить и о чем действительно переживают юные люди. Оказалось, что взрослые ни черта не знают о том, куда и зачем растут их дети. И что им может помочь.
В своей книге я хочу говорить с читателем не свысока, когда двое взрослых собрались и решают, как научить подростка уму-разуму, добиться послушания, взять под контроль все происходящее. Это непродуктивно и бессмысленно. Я хочу, чтобы родитель вспомнил свой подростковый период и все, что тогда его тревожило, все проблемы, с которыми он столкнулся. Родителю нужно окунуться в мир и состояние подростка, чтобы в дальнейшем выстраивать с ним позитивные и доверительные отношения.
Помните, как горело в груди, разум застилали то непонятно откуда взявшийся гнев, то обостренное чувство несправедливости мира? А как сложно было остановить желание нагрубить, хотя вы понимали, что неправы? И вообще разбирало объявить бойкот окружающим и одновременно так хотелось чувствовать их одобрение? Теперь то же самое происходит и с вашими детьми.
Итак, добро пожаловать в пубертат.
Часть I Кто такие и почему такие
1. «Подросток типовой»
«Началось». Кого мы называем подростком
Вспомните, кто из вас ссорился с родителями в подростковом возрасте? Кто прогуливал школу или срывал уроки, всячески избегал нахождения в классе? Кто пробовал пить алкоголь/курить? Кто тискался и целовался по парадным? Кто уходил из дома – или собирался и грозился сделать это? Кто вообще родителей не слушался?
А кто вел дневники, писал стихи? Кто страдал от предательства друзей? Если что-то из перечисленного относится к вам, значит, вы были абсолютно нормальным подростком. Безусловно, подростки вытворяют не все из списка, но в какой-либо комбинации – обязательно.
Пубертатный период – это скачок роста, изменение гормонального фона, асинхронность развития: растет не все сразу, а по очереди. Когда тело выросло, а сердце не успело – вот вам анемия, обмороки, слабость, апатия. Тело выросло, а координация отстает – и подростки сшибают углы, роняют все из рук.
Развитие органов, частей тела и психики – аналогично неравномерное. Получаются ребята с головой взрослого и саморегуляцией восьмилетнего мальчика. Они выросли под метр восемьдесят, но не задумываются о смысле жизни.
Как вы поняли, у подростков и без внешних жизненных задач очень много всего происходит. Эмоциональная лабильность – скачки настроения – это тоже следствие возраста.
Если следовать периодизации, предложенной в учебниках, то с 10–12 лет все и стартует. Примерно тогда к нам, психологам, родители приходят с выпученными глазами и говорят: «Ой, все, началось», – и непонятно, как это остановить. Официальная наука делит пубертат на:
• младший подростковый период – 11–13 лет. Здесь основная мотивация – общение со сверстниками. А вот мотивация ко всему остальному падает, в связи с чем, например, наблюдаем полный провал в учебе. Сейчас для подростка важно получить опыт взаимодействия, признание, сформировать самооценку через окружающих;
• старший подростковый период – 14–17 лет. Задача этого возраста – самоопределение, понимание: «Кто я? Что я? Зачем я?» Многие подростки ведут дневники, увлекаются чем-то творческим. Происходит взросление, появляется много возможностей, но при этом сохраняется полное отсутствие знаний о своих ресурсах.
Дети помладше тоже могут давать жару, и родители жалуются, что в 8–9 лет чада уже в полный рост хамят, спорят, забивают на учебу.
Но хамство – не основной и не единственный критерий начала пубертата.
Давайте копнем поглубже.
Пубертат запускается половыми гормонами. В среднем это возраст 11–13 лет. У девочек – чуть пораньше. И начинается катавасия с эмоциональной нестабильностью, психофизическими изменениями, неадекватным поведением и своеобразными решениями.
Психофизические изменения происходят под влиянием ускоряющихся темпов роста: меняются общие пропорции тела, подростки вытягиваются, прибавляется вес. Конечно, от таких изменений по всем фронтам вчерашние малыши пребывают в недоумении. Буквально с нуля учатся управлять своим новым телом.
Потом накрывают гормоны и полностью руководят телом и сознанием, вызывая повышенное беспокойство и чрезмерную активность. Заметная неловкость в движениях вызывает смущение, может провоцировать появление комплексов. Подростки теперь уязвимы и крайне остро реагируют на комментарии относительно внешности.
Так вот одним из этапов развития в этот момент станет принятие себя как взрослого представителя своего пола. Происходит первый опыт романтического общения, появляется близкий друг для доверительного, исповедального разговора. Вот почему подростку так важны друзья.
И биология человека не изменилась от наличия интернета и смартфонов. А вот социальная жизнь и всяческие психологические феномены вполне себе стали жертвами прогресса. Общая культура, взаимодействие в социуме, подход к воспитанию, да и просто доступность информации – вот что изменилось сильно.
И то, что мы наблюдаем в детях, – не следствие изменений эволюционного процесса. Это адаптация к новым социальным, культурным и информационным условиям.
Вот смотрите. За последние 10–15 лет родительство и отношение к воспитанию детей развернулись в сторону детоцентричности, демократизации, большего внимания к происходящему с детьми, большей информированности о развитии ребенка.
А это значит, что дети получили простор для собственного мнения, чаще могут выстроить границы, сформировать самооценку и достаточный уровень уверенности, высказываться, наконец. В результате мы получаем «борзое» поколение. А ведь они «борзеют» потому, что набирают сил и им становится важно отстоять свою взрослость. Нынешним детям не надо даже дополнительно копить силы и смелеть, у них сразу есть простор для высказывания и отстаивания своей позиции.
Идем дальше. Хвала интернету, теперь у каждого лет с 6–8 есть доступ к миллионам гигабайт информации. А что это значит? Родители потеряли прерогативу главного источника знаний о мире.
Если раньше родительское мнение не ставилось под сомнение (не было других), то теперь дети могут поспорить, и часто даже аргументированно. Или просто посмотреть «видос» с альтернативным представлением о реальности. Они начинают думать сами. Вот уже на уровне мышления и оценки действительности подростки раньше становятся самостоятельными. Да, не всегда адекватными. Но самостоятельными.
Глобальные изменения в мире не оставляют нам шанса на послушных детей, которые заглядывают нам в рот. Не надо бежать к психологам со словами: «Мой ребенок живет не по «Домострою»!» Учимся существовать в реальности с еще не взрослыми, но уже очень самостоятельными малышами. Помогаем лечить синяки от собственных граблей – помешать станцевать на них мы все равно не можем.
Что хорошего в этом? Вы уже от своего восьмилетнего ребенка получаете тест-драйв подросткового возраста и имеете возможность заранее подготовиться и научиться взаимодействовать. Выстроить недирективные отношения на доверии. И сгладить то, что по-настоящему придет, когда заработают половые гормоны.
Быть «борзыми» – это еще не подростковый период, а скорее следствие демократизации воспитания, повышенного психологизма.
А вот если говорить уже относительно настоящих подростков, то лет с тринадцати интересные изменения происходят не только с ними самими, но и с реальностью вокруг. Как думаете, что радикально меняется по отношению к нему во внешнем мире и создает огромное напряжение?
Требования и ожидания. Все вокруг взывают к ответственности, просят вести себя по-взрослому. В какой-то момент родители вдруг решают: ребенок вырос, теперь с него можно спрашивать как со взрослого дяди (подробнее об этом мы поговорим в главе «Реалистичные и нереалистичные требования родителей подростка»).
Подросток внезапно оказывается в среде с другим уровнем ожидания к нему. А его психика в этот момент решает внутренние задачи: что-то попробовать, что-то видоизменить, чтобы перейти на следующий этап развития.
Вспомните кризис трех лет, когда ребенок – это неуправляемый неприятный тип, который не слушается. Он решает задачу и хочет разобраться: а что в этом мире зависит от меня, на что влияю я? Где заканчиваюсь я и начинается мир? За что я получу по голове? Вот почему он все время куда-то лезет и ломится и, конечно, сталкивается с требованиями, ограничением дозволенного. Если малыша жестко строили и не давали определить границы, то в дальнейшем у него будут проблемы с самовыражением.
Некоторые психологи вообще считают, что подростковый период – это реинкарнация кризиса трех лет. А похоже, правда? Все время повторяет «Я сам!», не слушается, лезет, куда нельзя, с разбегу бьется о выставленную границу – и только тогда ее понимает.
Вот так можно понять, что уже «совсем началось»:
Авторитет родителей падает на дно. Теперь на первом плане – сверстники. Это они самые умные и самые важные.
Борьба на всех фронтах. С родителями, требованиями социума. Борьба за место в группе, за свое будущее. И самое главное – с самим собой. Со всем, что рвануло внутри и пытается раздергать подростка на части.
Для взрослеющего ребенка конфликт со всем миром – норма, а типичный взгляд на жизнь – «Все козлы, а я – д’Артаньян».
А что еще невооруженным взглядом видно родителям и какие первые советы можно дать в этом случае?
С чем вам приходится иметь дело
Вы оказались на одной территории с непредсказуемым, агрессивным, эмоционально нестабильным, неконструктивным существом с нездоровой тягой к гаджетам и полным пренебрежением к нормам, учебным задачам и вашему авторитету. «Буду ложиться спать когда захочу (утром), убираться когда захочу (никогда), ходить в школу, если вообще захочу (ха!). И чтобы были карманные деньги!»
И нет, это не сюжет нового сериала от «Нетфликса», а типовая ситуация для каждого родителя подростка. У некоторых из вас есть еще отягощение в виде младших детей, домашних животных, близости ЕГЭ, проблем на работе и т. д.
Фигово, что уж там. Но давайте организуем свой «союз спасения остатков нервных клеток родителей подростков». Проведем рекогносцировку местности, то есть получше изучим пространство и ситуацию, в которой мы оказались.
Знаете, есть такой факт, что для родителей один из самых неприятных запахов – запах его ребенка в подростковом возрасте. То есть уже биология подает нам сигнал: «Выселить его за дверь!» Но современные реалии, изменившийся мир и цивилизованное сознание, конечно, успешно затыкают рот этому голосу.
Да и со свободой, которой жаждут дети, есть один интересный парадокс: она всегда включает в себя как самостоятельность, так и ответственность. Родители любят вторую часть, но не очень рады первой, а подростки – наоборот, мечтают стать самостоятельными, но не желают нести ответственность. Из-за этого парадокса и происходят всякие перекосы. Если мы держим ребенка в ежовых рукавицах лет до 18, а потом резко отпускаем на волю, то что он там делает? Еще и, не дай бог, обратно вернется, да? Опыт управляться с самим собой и жизнью надо получать до совершеннолетия!
Вы не поверите, но растущие дети – засранцы не сами по себе. Так проходит этап развития, на котором психика подростка решает следующие задачи (на каждой из них мы поподробнее остановимся в Главе 3):
1. Психологическое отделение от родителей: вы ничего не знаете, ничего не значите, все, что вы делаете, – это придираетесь и нападаете. Он просто защищается.
2. Общение, признание, отношения со сверстниками – если там вдруг что не так, то энергия уходит со страшной скоростью и все остальные сферы летят мимо. Одновременно важно выделиться – и отличиться от всех, «быть белой вороной, которую все любят». Найти свою группу, обрести принятие, социализироваться.
3. Самопознание в широком смысле – гонять в голове всякое про этот мир, себя и других людей. Обрывочная философия и нестабильная рефлексия, охота за новым опытом. Нестабильную самооценку подростков штормит: то они короли, то ничтожества.
4. Справиться со своей физиологией и сексуальностью (вообще это две задачи, но тут не принципиально). Предстоит разобраться, чем телесное отличается от романтичного и как они стыкуются / не стыкуются.
Есть тут что-то про учебу? Вот-вот. А вы все об уроках. Вот что подростков беспокоит на самом деле:
• как бы сделать так, чтобы родители отвалили;
• чтоб его признали сверстники;
• много общения;
• не прилагать усилий, не думать, не переживать;
• гаджет/игры/интернет.
Вот какие бури у них внутри. И с этими бурями они живут ежесекундно, стараясь удержаться на плаву. И ровно в тот же момент от нас в их сторону летит внешнее – упреки и распоряжения, команды.
Но что делать родителям, которые уже и сами на пределе, доведены и сейчас взорвутся? Как жить нам самим, что у себя в голове перестроить и что предпринять, чтобы все было более-менее гладко? Как не прибить подростка?
Киньте в меня камень те, кто ни разу не задавал себе такой вопрос. А статистика говорит, что подростков, на самом деле прибитых родителями, крайне мало. Значит, большинство так или иначе справляются, но в основном ценой стертых в крошки зубов, седых волос, разгроханной посуды, испорченных отношений и утраченного здоровья.
Вы только не подумайте, я не сторонник того, чтобы «гори оно все огнем, на тебе леща». Даже наоборот. Я истово верю в ценность отношений и в то, что именно отношения являются единственным конструктивным инструментом влияния.
Однако стоит признать, выстраивать отношения с тем, кто тебя невыразимо бесит, – сложно. В основном потому, что, когда наши глаза застят эмоции, мы абсолютно не способны на конструктивные действия. А значит, шанс на выживание и вообще позитивные движения дает только наша способность к саморегуляции. То есть родителю нужно понять, что с ним сейчас происходит, и найти способ справиться с ситуацией без вреда для себя и окружающих.
Родители пишут
Очень часто вспоминаю ваши слова о том, что «подросток так устроен, чтобы нас бесить, для того чтобы мы его вовремя выкинули из гнезда»! Реально помогает правильно воспринимать даже, казалось бы, самое неадекватное поведение! Благодарю за все, что вы делаете! Это действительно ценно! Возникает образ из Сэлинджера, будто ловите детей над пропастью во ржи.
Мы все – не плохие родители, даже временами хорошие. А некоторые – так просто отличные. Очень за детей переживаем, читаем книги и блоги, стараемся, чтобы все по науке и от любви. А они все равно агрессируют, не ценят, обижаются и ведут себя как голодные хорьки. Это правда задевает. Иногда добивает не сама агрессия, а вот эти наши чувства после: беспомощность, тревога, разочарование.
Нам, родителям, хорошо бы понимать причину таких подростковых реакций. И вот это наше ожидание отдачи ежедневно добавляет немного обиды к тому, что происходит между нами и ребенком. А если сжиться с мыслью, что щенок грызет ботинки не потому, что вас ненавидит, а потому, что ему надо зубы точить, – обиды будет меньше. И жить станет легче.
Надеюсь, книга поможет вам в этом.
«А может, пронесет?» Все дети разные. ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ
Все, что происходит с подростком, – гормоны, стрессы внешнего мира, изменившееся тело, – напрямую влияет на его поведение, на принятие решений.
Пубертат происходит у всех: у кого-то более гладко, а у кого-то – совсем не так. Причем, как показывает практика, проблемы в подростковом возрасте – это нормально, все с ними сталкиваются.
А вот если проблем совсем нет и ребенок послушный – с высокой долей вероятности что-то неладно!
Важно отдавать себе отчет в наших целях. Если мы говорим про младший подростковый возраст, то тут задача ребенка – набрать максимальное количество разнообразного опыта, попробовать больше вариантов деятельности, чтобы потом было легче самоопределяться, выбирать, что нравится, что нет. Научить доводить до конца – это вообще другая история. Оптимальный выбор для родителя – даже не направлять, а аккуратно поддерживать все пробы и начинания, не настаивая на завершении или определенности, пока что не время.
Знаю, есть взрослые, которым важно, чтобы их ребенок стал крутым в какой-то определенной области. И абзац, написанный выше, им «мимо кассы», они все равно будут давить в одну точку. Это лотерея: если с выбором угадали, то все круто, если нет, то вся работа и прессура – в никуда, плюс психологическая травма и сильно напряженные отношения между родителем и ребенком.
Важно учитывать и личные особенности подростка. Кому-то будут просто и легко даваться бесконечные пробы вариантов, а кому-то, может, год-полтора надо позаниматься чем-то одним. Универсального решения нет. Вспомните, как ваше взрослеющее дите попробовало танцы, а потом схватилось за рисование, театральный кружок, бокс, футбол. Только и успеваете оплачивать смену мольбертов на спортивную экипировку! И ведь все бросает, абсолютно все! Сил нет от этого непостоянства.
Любого родителя в этот момент донимает пугающая мысль: «Он же никогда не научится ответственности! Так и будет перекати-поле – то одно, то другое». Предлагаю вам другую точку зрения: ваш подросток имеет возможность безопасно попробовать очень многое, посмотреть на себя в разных сценариях и ситуациях.
А может быть, самоустраниться и пусть делает все что хочет?
Другая крайность – отсутствие внимания – вообще вызовет у подростка желание демонстративно все внимание к себе привлечь! То есть дети равнодушных родителей могут как раз по этой причине совершать неконструктивные выходки.
Родители пишут
Когда начался переходный период, было очень тяжело и ей, и мне. Скандалы, провокации, непонимание… В 12 лет пришла ко мне и говорит: «Мам, теперь я – сатанистка!» Я говорю: «Как не повезло сатане!» На ее лице отразилось полнейшее недоумение. Больше провокаций не было. Сейчас ей 15, живем душа в душу.
Вот протестное поведение, например: он делает все наперекор, ждет, что на него обратят внимание. Вариантом могут быть повышенная скандальность, агрессивность или разрушительная активность: ломает, портит, начинает хуже учиться, прогуливает. Может произойти падение в детскую позицию: жалобы, слезы. Другим вариантом станет селфхарм или демонстративные рассуждения о суициде.
Бывают и условно позитивные промежуточные варианты: начинает хорошо учиться, ходит и показывает родителям все свои дипломы, награды: «Вот, смотрите!» – если родители не реагируют, то наступают печаль, напряжение, раздражение и в конце концов все равно все скатывается к деструктиву.
Как вы понимаете, первая и основная ошибка родителей во взаимоотношениях с подростками – негибкость. То, что мы не перестраиваем свое поведение, а дети-то наши уже изменились.
Вторая ошибка – непоследовательность. Дети видят это – и сами не выполняют свои обязательства и обещания.
Конечно, мы все – живые люди, можем что-то ляпнуть, но желательно потом признать, что вот тут мы действительно промахнулись. Другое дело, если это происходит систематически: тогда для подростков очевидно снижается значимость наших высказываний. Если мы хотим, чтобы наши слова были вескими, то нам надо говорить их редко. Конечно, до идиотизма не доходим, всякую хрень не говорим. Помним о саморегуляции.
Сказанное надо приводить в исполнение, дети смотрят на нас, перенимая ролевую модель «сказать и не сделать». Плюс подростки вообще склонны забывать, о чем их попросили, поскольку для них это не является важным. Если мы говорим и не делаем, то и от подростка не можем требовать чего-то.
Бывает и такой сценарий: подросток не протестует, свое мнение никак не отстаивает. Фактически пубертат проходит «незаметно».
Стоит отметить, что это нечастая история. Психологи в таких случаях обращают внимание на личностные особенности ребенка, на то, что происходит в семье. Потребность в психологической сепарации в той или иной степени есть у всех, но если это не вылезает наружу, то, возможно, подростку страшно это показать. Страшно или из-за своей тревожности, или из-за слишком жесткой структуры воспитания.
К примеру, в семье очень жесткий папа: шаг вправо / шаг влево – расстрел. Тогда ребенок не будет выступать в оппозиции к взрослому, пока не наберет достаточно сил, чтобы ответить тем же или свалить из дома. Если очень много правил и жесткое соблюдение их обязательно, то все будет тихо – но до тех пор, пока у подростка не рванет.
Но снова подчеркиваю, что идеальной модели прохождения этого возраста нет.
Родителям кажется, что взросление – это линейный процесс. С каждым прожитым днем ребенок становится чуть взрослее, чуть осознаннее, чуть спокойнее и мудрее. Ни фига подобного! Это если коротко. Взросление (да и вообще развитие) идет скачкообразно.
Л. С. Выготский различал два типа возрастных периодов, сменяющих друг друга: стабильные и критические. В стабильных возрастах развитие совершается медленно, эволюционно, а в критических – бурно, стремительно. Кульминацией становится резкое обострение кризиса в середине. Это апогей, по которому удобно датировать кризис.
Основа кризиса – отказ от старой социальной ситуации развития и образование новой, то есть налицо и разрушительное, и созидательное начало. Кризис приходит не для того, чтобы все стереть в пыль и ничего не дать взамен!
Пубертат – это только один из пяти, о которых пишет Выготский. От рождения и до взросления мы все состоим из кризисов, посмотрите сами:
• кризис новорожденности;
• младенчество (2 месяца – 1 год) + кризис одного года;
• раннее детство (1–3 года) + кризис трех лет;
• дошкольный возраст (3–7 лет) + кризис семи лет;
• школьный возраст (8–12 лет) + кризис 13 лет;
• пубертатный возраст (14–17 лет, Выготский не берет более ранние сроки) + кризис 17 лет.
Чтобы понять, что кризис неизбежен и даже нормален, посмотрите, из каких этапов он состоит.
• Сензитивный период[2]. Этап, когда человек становится очень чувствителен к определенного рода сигналам, важным для развития определенных функций. За этот период человек набирается опыта и шишек, необходимых для следующего шага в развитии.
• Бахает кризис. Тьма, мрак, кровь, слезы, сопли. Буйство красок, переломный момент. Если кризис прошел успешно, то…
• Переход на следующий этап развития. И дальше по новой пошло накопление надежд и опыта.
Кризис в таком понимании может быть и не очень ярким, но при этом он все равно происходит. Имеется в виду, что отмирают старые модели и замещаются новыми. Это может проходить достаточно спокойно.
Если поставить задачу визуализировать развитие, то путь будет не линией, а скорее зигзагом. Здесь важно, чтобы накопилась энергия, необходимая для перехода. Как только она соберется, организм перейдет в режим ожидания События. То есть ожидания чего-то, что произойдет и окажется последней каплей. Когда Событие позади, мы осознаем, что выросли, повзрослели. Или окружающие видят: какой-то этап развития завершился.
Это все равно будет. Но никто не даст вам точной даты, когда именно все произойдет, так стоит ли накручивать себя заранее, пытаясь угадать: а мой спокойный будет? А моя добавит нам седых волос?
В младшем подростковом возрасте дети уже могут порой вести себя как взрослые, могут иногда мыслить как взрослые. Но эта «взрослость» включается периодически, хаотично: как стробоскоп на дискотеке. Сами они этим не очень управляют.
Понимаете, о чем я говорю? То есть ваш ребенок может до упора вести себя как малолетний, а потом, как по щелчку пальцев, стать взрослым. Но, что важно, не таким взрослым, каким бы вы хотели его видеть.
Этим я подчеркиваю и последовательно отстаиваю идею бессмысленности родительских ожиданий.
Пубертат вы все равно не спутаете ни с чем другим.
2. Немного о физиологии
Действительно немного, потому что, во-первых, книга не об этом, во-вторых, информация есть в любой медицинской энциклопедии и в интернете, конечно же (хотя там не всему можно верить). Упомянуть о важности физиологических процессов я обязан, но зацикливаться на них мы не будем, хорошо? Просто предупрежден – вооружен.
Давайте поприветствуем на страницах моей книги замечательного педагога-психолога, специалиста по половому воспитанию Ирину Селиванову. Подробное и достойное изложение непростого предмета этого раздела – полностью ее заслуга. Хотите знать больше – приходите к ней на страницу: там познавательно и нескучно.
У взросления мальчиков и девочек есть общие и индивидуальные приметы. Когда ребенку исполняется 12–14 лет, сложно не заметить, что он начинает активно расти. Так, некоторые дети вырастают за год на 7–20 сантиметров, что является достаточно сложным испытанием для всего организма.
Активнее всего растут трубчатые кости, формируются грудная клетка, руки и ноги, подросток становится непропорциональным, может быть нарушена координация движения. Помимо скелета, перестраивают свою работу и внутренние органы: изменяется деятельность гипофиза, увеличивается темп роста мышечной системы, ускоряется обмен веществ. Также более активно начинают работать половые и щитовидная железы, растет сердце, увеличивается объем легких.
Подростки реально становятся совами, позже засыпают и трудно встают – не из-за телефонов, а из-за биологии. Фигово спит – точно начался подростковый возраст. Проводилось нейрофизиологическое исследование детей в возрасте 10–11 лет[3].
И, конечно, максимально активны половые гормоны, благодаря чему у подростков появляются вторичные половые признаки.
Мальчики
Что происходит в организме мальчиков в период полового созревания?
Считается, что пубертатный период у мальчиков начинается примерно с 10–12 лет и заканчивается к 17–18 годам. Под воздействием гормонов подростки превращаются в мужчин.
Одним из первых признаков начала полового созревания является рост яичек и пениса. Активный рост половых органов наблюдается у мальчиков с 11 лет при увеличении концентрации в крови андрогенов. Внешний вид мошонки изменяется: теряется гладкость кожи, появляются пигментация и грубые волоски. Увеличение пениса следует за увеличением яичек. Появление волос у основания пениса с последующим распространением на лобок обусловлено ростом андрогенов.
Первые волосы на лице мальчика заметны в 14–15 лет. Пушок располагается над верхней губой, около ушей. Далее волосы появляются на внутренней поверхности бедер, груди. Под конец полового созревания на лице появляются усы, вслед за ними – плотные волосы на щеках.
Первое ускорение роста наблюдается в самом начале созревания, в 11–12 лет. Под влиянием андрогенов и соматотропина (гормона роста) мальчик вырастает на 10–15 сантиметров. После скачка роста наблюдается его замедление. Затем ребенок прибавляет 7–8 сантиметров в активной фазе созревания и еще 4–5 сантиметров к ее окончанию.
В возрасте 18–22 лет повышенное содержание эстрогенов в крови вызывает окостенение зон роста длинных костей – и рост прекращается.
Причиной разрастания плечевого пояса и вытягивания тазовых костей является повышенная концентрация тестостерона. Наблюдается непропорциональное увеличение конечностей: сначала увеличиваются кисти рук и стопы, после начинается рост в высоту. По этой причине мальчик может испытывать психологический дискомфорт, но тело быстро становится пропорциональным. В активной фазе полового развития мальчики худощавы. Мышечная масса набирается ближе к 17–19 годам, когда проходит гормональная буря.
В возрасте 14–15 лет начинают продуцироваться мужские половые клетки – сперматозоиды, созревание которых происходит непрерывно в отличие от созревания яйцеклеток. Как раз в это время у мальчиков появляются поллюции – самопроизвольные семяизвержения. Это может произойти и на 1–2 года раньше. Это нормальное физиологическое явление.
Увеличение гортани за счет разрастания щитовидного хряща происходит также по причине гормонального всплеска. Растянутые голосовые связки дают звуки разной тональности, что в народе называется мутацией голоса. К 17 годам щитовидный хрящ максимально увеличивается, формируя «адамово яблоко», а окрепшие связки издают устойчивые звуки – мужской тембр.
Гормональные всплески в организме мальчика становятся причиной увеличения интенсивности потоотделения – пот приобретает характерный запах. Также повышается активность сальных желез кожи, из-за этого в 14–15 лет появляются прыщи и угри. Помочь понять нормальность происходящего – задача родителей. Папа и мама должны объяснить сыну, что с ним будет происходить, что это нормально и, если возникнут вопросы или его что-то беспокоит, – он всегда может прийти, поговорить и найти с родителями совместное решение.
Девочки
«Мама, что это?» – обычно такой вопрос звучит от девочки, которая не понимает, что с ней происходит.
Самые резкие изменения происходят еще до начала первых месячных, в этот период отмечается значительное ускорение роста (помните уроки физкультуры, когда все девочки стоят в начале шеренги до старшей школы?). Очень часто девочки не нравятся себе в этот период, так как мышечная масса не успевает за ростом костей и тело выглядит угловато. Также за ростом мышц не успевают нервные окончания, поэтому девочки-подростки часто бывают неловкими.
Постепенно бедра расширяются за счет роста костей таза в ширину и накопления жировых отложений. Также жировые отложения формируются на груди, лобке. Именно в этот период фигура девочки приобретает характерные женственные очертания.
Важно обратить внимание на то, что жировые отложения в организме девочки необходимы (!) для нормального менструального цикла и подготовки к рождению детей, поэтому не стоит гнаться за модельной худобой.
Кожа девочки-подростка может также не успевать за ростом костей, это иногда вызывает появление трещин, стрий на коже (растяжек). Начинают активнее работать сальные железы (кожа становится жирной, волосы тоже, могут появиться угри).
Начинается рост молочных желез, грудь растет на протяжении длительного периода – до 16 лет в среднем. Размер и форма молочных желез уникальны у каждой женщины. После начала роста груди начинается рост волос на лобке. Сначала волоски появляются в области половых губ, потом разрастаются на весь лобковый треугольник. Затем волосы начинают расти в области подмышек, на ногах, руках и так далее.
Появляются выделения из влагалища, которые являются предвестниками наступления менархе. Первые месячные наступают примерно в возрасте 11–15 лет. Сначала цикл чаще всего нерегулярный, поэтому девочке важно всегда иметь с собой про запас средства женской гигиены. Цикл устанавливается в течение года.
После наступления менструации начинается более активное развитие половых органов. Половое созревание девочки завершается обычно к 18 годам.
С вами мама или папа говорили о предстоящих изменениях в теле? Вы поговорили с дочерью или сыном? Планируете это сделать?
Гормоны провоцируют первые сексуальные желания – абсолютно новые ощущения для подростка. Вместе с тем подросток испытывает трудности с самоконтролем и адекватностью восприятия своих действий.
Важно понимать, что вся информация, полученная подростком до начала полового созревания, воспринимается им как удовлетворяющая его интерес к определенным темам. А вот когда гормон начал активничать, тут уже гораздо сложнее вложить в голову нужное и важное, поскольку подростку труднее становится воспринимать все в силу физиологических и психологических изменений.
Так что помните: лучший возраст для полового воспитания – с 8 до 12 лет. За год до полового созревания ребенку будет комфортнее всего все узнать.
Ирина Селиванова, t.me/naukapopolam, naukapopolam.ru
3. Что они чувствуют. Какие задачи они решают
Моя любимая метафора для описания внутреннего состояния подростка: представьте конюшню, в которой много лошадей. И вот начался пожар. Кругом все в дыму, кони мечутся как безумные, сшибают перегородки и пытаются вырваться наружу. Но ворота конюшни заперты. Родитель здесь – это сторож, который сидит спиной к воротам, бьющим его в спину. И вот если он их откроет, то улетит на фиг – лошади его снесут. А если не откроет, то к чертовой матери сгорит вместе с конюшней.
Подростки сами не могут осознавать, где они находятся, куда направляются и где хотят оказаться. Между точкой «сейчас» и финальным пунктом у них в понимании – туман. Нет представления, как через него идти. С этим связано много страхов: «Я не понимаю, реально ли то, что я хочу, а такой ли я, чтобы там быть?» И вот с этой тревогой и страхом они существуют. Думаю, теперь понятно, что эти переживания мало вяжутся с идеей «сядь, сделай уроки, получи пятерку по математике». Мы видим поведение подростков, знаем, что происходит с нами, но не понимаем, что происходит с ними. А на вопрос: «Что с тобой происходит?» – подросток отвечает: «Выйди из комнаты!»
Почему подростки не говорят с родителями?
А о чем с нами говорить? Об уроках, немытой посуде, чистке зубов, кем станешь в будущем, ты охренел совсем, что ты там сидишь в своем «Ютьюбе», «Тик-Токе» (дурь какая!), давай собирайся, репетитор через час, ты как с отцом разговариваешь? Очень увлекательно. И почему они не стремятся к таким задушевным беседам?
Даже за вычетом всех подростковых особенностей мы с вами можем сделать очень многое для того, чтобы контакт стал проще, а отношения – крепче. Причем большую часть действий надо не начать, а прекратить.
Прекратить наезжать, критиковать, обесценивать, унижать, игнорировать, решать за них, давить. Кто не замечал этого за собой? И мы же не злодеи, правда? Большая часть из таких штук маскируется за пользой для ребенка или усталостью от жизни, а в основе – наши собственные страхи и тревоги, а еще общее наблюдение, что подростки решают прежние задачи, но в других условиях.
Огромная часть коммуникаций у подростков теперь в мессенджерах, соцсетях. В наше время такого не было. Плюс еще одна принципиальная история – возможность контроля со стороны родителей. Раньше предки целый день не знали, где мы там шарахаемся с ключом на шее. А сейчас лет до 17 могут с геолокацией следить, где ребенок, и в любой момент позвонить, а потом истерить, если не дозвонились в течение трех минут.
Наши дети решают те же проблемы, что и мы когда-то, но уже в другом мире и реальности. Что изменилось? Как минимум наличие интернета, повышенная тревожность и образованность родителей. Другой подход к школе и к образованию. Более открытый мир.
Основные причины волнений подростков – это отношения, самооценка, эмоциональное состояние, «меня не слышат», чего хотеть и кем быть. А на фоне всего этого возникаем мы, родители, с очень принципиальным «вещи убери!».
Типичные фразы, которые я слышу от родителей: «У него плохое настроение, ничего не хочет, совсем перестал учиться. Еще что-то с самооценкой, да и не ладится общение, он не может разобраться, кем быть».
Могу сказать, что со всеми подростками происходит примерно одно: они внезапно резко меняются и их мозг пытается к этому приспособиться. Подросток фактически находится в раздрае. Меняется и структура его самооценки. При этом четко прослеживается недостаток абстрактного мышления и временной перспективы, что мешает подростку оценить долгосрочные последствия любых действий. И, конечно, достаточно серьезная эмоциональная нестабильность.
А помимо всего этого – никуда не деваются родители, которых беспокоят его учеба и бардак в комнате. И внезапно:
1. Дети перестают реагировать на привычный формат коммуникации.
Когда мы растим малышей, то для них мы – весь мир. Именно мы, родители, определяем правила и говорим, что нужно делать. А подростки в определенный момент просто перестают слушать. Или еще начинают возражать, протестовать.
Но у родителей в этот момент не щелкает в голове: «О, да он вырос!» – а включается реакция: «Ого, как нахамил! Ну щас я ему!..» Родитель начинает давить еще сильнее, включать больше авторитарности. Конечно, теперь конфликт нарастает.
Родители пишут
Из фейлов в общении – услышать от знакомого подростка «Здрасьте – хренасьте» в ответ на безобидное «Привет!». И руки опускаются, не знаю, о чем тут дальше говорить.
2. В какой-то момент мы осознаем, что вообще-то мало знаем, что он там делает, сидя у себя в комнате.
Он ставит пароль на телефон, избегает долгих разговоров. Или же случается другая, абсолютно противоположная поведенческая реакция – ваш подросток начинает делиться своими, уже взрослыми, проблемами: влюбленность, дружба, мысли о будущем.
Ошибка родителей здесь заключается в том, что они используют такой момент как возможность напихать в чадо максимум мудрых советов, пользы, рассказать, как надо жить. А ведь это не тот случай. Здесь как раз нужно помолчать, послушать, поддержать, намотать себе на ус, что – да, дитя подросло, и теперь нужно с ним как-то по-другому.
А как? Есть предложение посмотреть на негативные поступки подростка иначе.
Не хотят делать – значит, нужен простор для формирования собственной мотивации. Хамят, ругаются – ищут возможности отделиться и стать самостоятельными. Экспериментируют с ролями и образами – ищут себя, расширяют ролевой репертуар. Взрываются от нарушения границ – слава всевышнему, научатся их отстаивать.
И вот здесь кроется ответ на вопрос
«Почему подростки к нам напряженно относятся? Почему нам от них прилетает и достается?»
Во-первых, они стремятся к свободе и самостоятельности, это мощная потребность!
Во-вторых, подростки – не идиоты и осознают (чувствуют), что полноценные свободу и самостоятельность не вывезут. Это создает мощный диссонанс и напряжение у них внутри.
В-третьих, поскольку ведущая психологическая задача возраста – психологическое же отделение от родителей, то чаще всего она решается через попытку обрести формальную самостоятельность.
И, помня про «во-вторых», подростки ощущают тщетность своих попыток отделения. Они чувствуют свою зависимость от нас (стремясь стать независимыми) и, более того, свою выгоду зависеть (потому что для полной и абсолютной свободы у них ресурсов нет).
И ведь мы еще ничего не сделали, а вот у них уже в голове какой удивительный набор тревог и напряжений.
Подростки ощущают себя заложниками. Причем такими, которые тоскуют по свободе, но одновременно имеют выгоду в своем положении. Как волк, который вырос в зоопарке. Клево, что регулярно кормят, но инстинкты говорят, что счастье где-то в лесу.
Вспомните ситуацию, когда вы от кого-то зависели, да еще и оставались в этой зависимости из чувства страха. Что вы испытывали к этому человеку? А к себе? Гнев, обида, унижение, тревога. А если этот человек еще и ткнул вас носом в нашу зависимость? Как он мог, вот же дрянь!
Так вот, какими бы хорошими родителями мы ни были, сочетание психологических задач возраста и социокультурных традиций (детей уже не выпинывают из дома в 14 лет) создает в психике подростка ситуацию, где мы злодеи, а они – жертвы. И это не лечится вообще ничем, кроме времени и личностного роста каждого из участников.
«Циничные, эгоистичные мерзавцы! Вообще не способны ценить то, что получают от нас. Ни мудрости, ни опыта, ни заботы. Ничего. Им надо только денег и чтобы мы отстали. Как мы вообще таких вырастили!» Бывали такие мысли? Еще бы. Типичный подросток не воспринимает наши благие намерения. И ладно бы просто не хотел, чтобы мы вокруг него прыгали и переживали. Так он же еще и обесценивает по полной программе: «Чему вы меня можете научить?», «Да вы динозавры, как еще не вымерли все», «Ты ничего не понимаешь».
А мы и правда иногда (почти всегда) не понимаем. Не понимаем, как можно просирать жизнь и шансы за гаджетом, гробить здоровье на ровном месте или вестись на провокации друзей-кретинов. А больше всего мы не понимаем, как они могут не быть благодарными за то, что мы полжизни на них убили, отказывали себе во многом, ночами не спали, деньги и время в них вкладываем, стараемся верить, постоянно идем на уступки и миримся с этим.
Но подростки действительно почти биологически не способны ценить то, что получают от родителей. И к лучшему, поверьте. Вы просто представьте себе, что будет означать полноценное признание всего, что для ребенка делают родители. Это же какой невероятный груз.
Вы наверняка и сами пробовали представить, что перенесли ваши мама с папой. В какой-то момент фантазия останавливается. Душа не выдерживает.
Потому что полное осознание создает огромный долг. И не вернуть его нельзя, и вернуть невозможно. И в этом моменте закончится своя жизнь.
А у наших детей главная задача – стать взрослыми и жить эту самую свою жизнь. Такой путь не пройти, оставаясь в долгу. Поэтому они и смотрят на то, что мы бесконечно в них вкладываемся, как будто так и надо.
Не волнуйтесь, они потом отдадут этот долг. Своим детям. Вам – нет. Правда, это вовсе не исключает простых слов благодарности. Может, вы их даже слышите – примерно раз в год. Просто не нагружайте нестабильную хрупкую психику еще и вот таким вселенским кредитом, хорошо?
Как-то я изучал методику исследования психологических проблем подростков. Следующая цитата выдернута из методички, из раздела определения понятий:
«Психологическая проблема – противоречие между сформированным (актуальным) уровнем развития тех или иных психических функций, процессов, свойств и теми вызовами, которые делает жизнь, требуя появления новых психических качеств».
Получается, проблема – это когда реальность требует от нас больше, чем мы можем? К примеру, ребенку нормально учиться на тройки, ему это не мешает, а мешает только родителям, и вот он считает, что раз они капают ему на мозг из-за учебы, то они и создают проблему.
Дальше в методичке было много слов о путях разрешения этого противоречия. Вкратце – или развивайся, или тебе конец.
Но ни слова (!) о том, что можно поменять среду (класс/школу, выбрать онлайн-школу, если говорить об учебе, или отношения в семье между родителями или детьми) или снизить требования, чтобы они были по силам! А потом давай удивляться, откуда столько желающих помереть от достигаторства на фоне миллионов тех, чья самооценка капитально пострадала.
Каждый день, каждую минуту подросток находится в состоянии войны со своей психикой, мышлением, эмоциями, стремлениями. Это пожирает невероятное количество энергии. Как тот самый пожар в конюшне – только теперь вашему чаду надо этих обезумевших рысаков запрячь и красиво поехать в свое счастливое будущее.
Каждый день, каждую минуту – пожар. Даже если он просто лежит на диване и ничего не хочет, внутри него «горит конюшня».
Никогда, ни до, ни после этого возраста, внутри нас нет такой борьбы. Больше ни в одном жизненном периоде все части нашей психики не развиваются в таком быстром темпе. А главное здесь – отсутствие порядка и синхронности.
Теперь, когда будете смотреть на своего подростка, представляйте внутри него пожар и коней. И он мечется, чтобы стать взрослым – хотя бы таким, как хотите вы. А если повезет, то в процессе узнать, каким взрослым он хочет стать сам.
Все психологические задачи пубертата, которые были перечислены в разделе «С чем вам приходится иметь дело», существуют как раз для того, чтобы обозначить путь к взрослению, а не для того, чтобы довести вас до нервного срыва. Поймите и примите.
Поговорим о каждой из задач отдельно: что делает подросток и что можно / не стоит делать родителям.
Сепарация
В процессе взросления наиболее важен период сепарации. Когда подростки максимально дистанцируются от родителей и ищут значимых людей на стороне, протестуют всегда, по всем поводам и без логики.
И здесь нужно сделать акцент на том, что родителям важно создать для подростка дома тихую гавань, чтобы он на стороне побесился, поскандалил, совершил ошибки и познал проблемы, но знал, что в семью всегда может вернуться и получить там утешение.
Как отпускать ребенка? И куда? И зачем?
Этот раздел включен в книгу по мотивам прямого эфира, в котором мы с психологом А. Яковлевым как раз задавали друг другу именно такие вопросы, искали адекватные определения и сравнивали свой опыт, жизненный и рабочий.
У нас тоже нет готовых решений, дорогие родители. И психологи – тоже мамы и папы. Так что давайте разбираться вместе.
«Отпустить» и «отстать»: это одно и то же или нет? Первое скорее идет от всего, к чему привязаны наши родительские страхи и тревоги. И «отстать» – значит, перестать их навешивать на ребенка. А также «отстать» – это поменять формат взаимодействия. Когда ребенок еще маленький, все, от чего подросток резко отмахивается и называет «приставаниями», включает в себя необходимые вещи: мы показываем, как ходить, мыться, одеваться, есть, причесываться, учим читать и прочее. Просто у родителей инерция больше, чем у детей: человек уже вырос, а мы продолжаем тащить душащую педагогику в отношения, когда уже нет необходимости.
Алексей когда-то рассказывал мне историю об интернате для слепоглухонемых детей. Когда их обучают простейшим (для нас, зрячих и слышащих) навыкам – например, есть, – то одно из самых важных действий для наставника это уметь почувствовать момент, когда ребенок хочет вести ложку самостоятельно. И убрать свою руку вовремя! Иначе есть риск, что ребенок второй раз уже не попытается и всю оставшуюся жизнь будет рассчитывать на помощь наставника.
Отличнейшая метафора как раз про перестройку родительского поведения и отношения. Мы пропускаем момент, когда ребенок что-то может сам, и продолжаем за него «водить рукой», контролировать. Часть детей с радостью нам эти бразды оставляют, до тех пор, пока совсем планка не упадет, а часть бьется за самостоятельность.
То, что ребенок начинает сражаться, – сигнал для родителя, чтобы пересматривать свой подход к воспитанию и количество приложенных усилий. А многие родители начинают воевать в ответ: «А ну, сядь, я сказал!» Отчасти это тоже идет из тревоги, но еще во многих случаях это просто заученный привычный паттерн.
И слово «отстать» я использую именно в ситуациях, когда родители на самом деле уже не сильно влияют на происходящее, но все еще продолжают пытаться. В результате – только конфликт и напряжение.
А «отпустить» – понятие больше экзистенциальное. Вверить ребенка кому-то другому (на самом-то деле – ему же самому). У меня с религией сложные отношения, но называйте как хотите: можете вверять Богу, судьбе – и принять, что все свои грабли подросток соберет без нашего участия, мы его не убережем от этого. Мы больше не отвечаем за то, что будет происходить дальше.
Конечно, мы тревожимся!
И ведь у нас нет понимания, когда именно это отпускание должно происходить. Ни определенного возраста, ни определенной даты. Тысячу лет назад существовал, скажем, обряд инициации: всех мальчиков племени вывозили в лес в 14 лет, и кто вернулся – тот взрослый. Удобно, понятно. Я, конечно, утрирую, но четкий момент времени присутствовал, да и родители «отпускали» в полный рост. Сейчас такого нет, все сложнее, неопределенность смешивается с тревогой и с тем, что «мы умнее, старше, мы знаем лучше». И мы продолжаем тащить детей на себе вплоть до университета, кто-то – и дальше.
В отпускании лично для меня тоже сконцентрировано много экзистенциальных страхов. Совсем жесть – например, страх, что ребенок умрет. У кого-то (возможно, у Корчака) было даже прямо написано, что надо принять: ребенок может не выжить без меня, но это – его путь.
Отпускание – процесс, который идет и внутри, и снаружи. Внутри он качественный: «перехожу и отпускаю», а внешне может быть очень плавным, постепенным.
Для примера: сплав по реке, в котором участвуют отцы с детьми, длится три дня. За ними очень интересно наблюдать. Тревожные отцы, которые в обычной жизни не проводят много времени с детьми, следят за каждым их шагом, буквально не отходят от ребенка – вначале. И видно, как день ото дня увеличивается расстояние, на которое ребенку разрешено удалиться. В итоге на последней стоянке ребята младше двенадцати лет собрались группой, ушли на гору метров за 200 от взрослых и отсутствовали часа три. Я с интересом смотрел, как отцы сидели, пили чай, периодически кто-то прислушивался – и все. Те же самые люди, которые с первого дня вытрясали из детей душу…
Мне самому отпускание дается волевым, сознательным усилием. Когда мой ребенок взбирался на горку, откуда можно серьезно звездануться, я прямо заставлял себя: жди, жди, жди, не лезь! На тех же сплавах сын вернулся с самостоятельной прогулки и рассказал, какой овраг и какое бревно они нашли с ребятами, но ползти туда не стали – я помертвел, вспомнив тот овраг, бревно и его высоту. Это был сильный опыт, показавший, что я на самом деле был не готов отпустить. Сознательно принял решение, что ребенок идет гулять – а внутри был не готов!
Я и лично, и со своим психологом прорабатываю это, потому что мне очень важен внутренний процесс. И наблюдение за антагонизмом внешнего и внутреннего. Так я лучше понимаю потом родителей, которые приходят ко мне.
Они же сейчас образованные, читают умные книжки, более-менее знают, что делать, психологов слушают. И вот внешне ребенка отпускают, дают больше свободы, а внутри – сжатая пружина, тревога никуда не делась и все равно прорывается. Дали самостоятельность – но задолбали по мелочи. Отпустили – а потом дали по башке за то, что он не так воспользовался этой свободой. И вот на сегодняшний день описанная мной ситуация более частая, чем вообще неосознанные родители, которые душат ребенка гиперконтролем.
Чем больше я думаю над этим, тем больше понимаю, что, прежде чем отпустить ребенка, нужно самому личностно развиваться и научиться доверять себе.
В обсуждении процесса «отпускания» у родителей иногда звучит вот такой мотив: «Ребенок для меня – дело, в которое я вкладывался много лет и продолжаю вкладываться, и я занят и переживаю за это. Если я ребенка отпущу, у меня не станет дела и большой кусок смысла моей жизни потеряется». Такой эгоистичный вариант, из страха почувствовать себя ненужным.
Иногда мы так сильно контролируем детей, потому что все ждем, что за нас тоже кто-то отвечает, что нас кто-то направит, о нас кто-то позаботится. И, казалось бы, логичный вывод – займись собой, но другими-то заниматься проще.
Дети справятся! И все равно они из-под крыла вырвутся, и все равно будут жить уже свою жизнь и своим психологам деньги нести. Вопрос не про них, а про нас, чтобы мы этот процесс прошли с достоинством, с минимумом седых волос, с интересом и удовольствием наблюдая, как наши дети становятся взрослыми. По-моему, это суперкруто!
Пробуя взрослую жизнь…
Этот небольшой раздел – для родителей уже более взрослых детей, принявших решение пожить отдельно или уезжающих на учебу в другой город, например.
Отъезд из дома – финальная точка сепарации (на самом деле нет, но могла бы быть ею). Отъезд ребенка может стать именно тем этапом, которого вам не хватало или на который вы не могли решиться.
Но как пережить тоску от отъезда ребенка, как не потерять связь, как заполнить пустоту? Выпускать из гнезда – ответственное мероприятие. А еще – нервное и даже печальное. Наверное, есть родители, которые с восторгом выпинывают чадо во взрослую жизнь, но их немного. Каким образом упростить процесс отделения и отъезда ребенка во все родительские тревоги сразу?
1. Начните готовиться заранее. Ребенок (даже взрослый) занимает большую часть нашей жизни. И с отъездом как минимум появятся свободное время и свободные мысли. Хорошо бы вы были к этому готовы. Поэтому:
a. составьте список того, чем вы хотели бы заниматься, но не хватало времени и сил;
b. уже сейчас, заранее, начните загружать свою жизнь приятными делами: походом к психологу, встречами с друзьями, поездками, тренировками. Круто, если у вас будет не хватать времени, тогда с отъездом ребенка вы испытаете еще и облегчение;
c. не накидывайтесь с утроенной силой на младших, они не виноваты, что старший вырос;
d. очень помогает начать учиться.
2. Пересмотрите жизненную концепцию и план вообще. Пока мы родители, голова редко думает дальше «вырастить ребенка». Все, вырастили. Зачем вы живете дальше? Чего хотите от жизни? Кем стать, как жить? Предупреждаю, это важные и сложные вопросы. Психолог может помочь.
3. Тревога. Ребенок уехал, а переживания остались. Вы же теперь еще и не видите его. И это совсем не значит, что сейчас с ним случатся все беды мира. Очень четко сформулируйте для себя, что вы хотите про него знать и в каком объеме. А главное – зачем? И вот это вот согласуйте с ребенком. Он уже, кстати, взрослый и может быть не согласен с вашими пожеланиями. Не потому, что не любит, а потому, что взрослые люди не отчитываются друг перед другом. На основе этого договоритесь о том, как вы будете общаться. Чтобы не получалось ситуации, при которой вы весь день ждете звонка, измучились и, когда ребенок наконец позвонил – наехали на него, что он совсем забыл свою мать. Важно: договоренность должна быть комфортна обоим, а не только вам.
4. Боль и печаль. Устройте праздник. Вот настоящий. С блэкджеком и кафе-мороженым. Такого сильного изменения в жизни у вас не было с момента появления ребенка. А лучше даже два праздника. Первый – всем вместе отпраздновать переход во взрослую самостоятельную жизнь. А второй – уже без ребенка, чисто для себя. Отпраздновать начало новой жизни без старшего ребенка.
Итого: отъезд ребенка – повод для радости. Новая жизнь начинается и у вас, и у него. Испытать радость поможет подготовка к этому как к радости, загрузка своей жизни событиями и делами и формулирование новых жизненных приоритетов.
Бывают ситуации, когда взрослому ребенку нужно к нам вернуться. И здесь родители решают, принять ли его в свой дом. Но мы должны понимать, что в этот момент мы помогаем другому взрослому человеку, а не возвращаем чадо в семью.
Сверстники
Стадность, желание принадлежать к какому-то кругу, социальность, антисоциальность – какие еще жалобы вы слышали?
«Нашел каких-то друзей. Имен не знаю, где живут – не знаю. Кто-то из ПТУ, кто-то школу бросил, а кому-то вообще уже 25 лет. Гопники какие-то. Курят, пьют, он говорит, что не пробует, а общается потому, что они интересные люди. А от него пахнет периодически. Где проводит время с ними – не знаю. Начинаю расспрашивать – замыкается или хамит. Учиться хуже стал, прогуливает».
Знакомо? А если еще у вас дочка – то тревога вдвойне. Вдруг чего натворят? Вдруг пойдет по кривой дорожке? Вдруг они ей навредят, она же такая наивная?
Если вы еще не столкнулись с этим в реальности, то наверняка переживали эту тревогу в голове. Нам никуда не деться от того, что важнее всего для подростков – общение со сверстниками. И, увы, авторитет сверстников выше, чем авторитет родителей. И это вообще не связано с объективными критериями оценки и социальными показателями.
Иногда компанию выбирают по общности интересов, иногда от отчаяния, иногда, чтобы просто быть в группе, иногда, чтобы казаться крутым, иногда потому, что заметили и позвали, иногда – потому что нельзя с ними и родителям точно не понравится.
Что же делать?
Опустим решение «Достичь дзена и принять, что подросток живет свою собственную жизнь». Хотя оно достаточно очевидное, но крайне непростое.
Внимание: все ваши действия в сторону друзей подростка, скорее всего, будут вызывать крайне негативную реакцию. Во-первых, потому, что негативная реакция на интервенцию в личное пространство – нормальна. Во-вторых, потому, что у подростков обострены реакции на родителей в целом. А уж если родители лезут в личное пространство – держите меня семеро.
Так что инструментарий у вас не очень велик. По сути, у вас три пути (ведь дзен мы откинули).
1. Отчаяться, забить и просто ночами плакать от тревоги. Но ничего и никак не говорить.
Этот путь быстро лишит вас сил, и вы все равно сорветесь на скандал. Но он имеет право на существование. Возможно, если вы переживете несколько месяцев или лет, окажется, что ничего страшного не случилось.
2. Радикально решить ситуацию. Что сложнее с появлением интернета, но все же возможно.
Если вы реально видите риски для жизни, то можете поставить на кон ваши отношения с подростком и избавить его от этой конкретной компании. Жестким запретом с санкциями, невероятным контролем, переездом в другой город, в конце концов. Важно понимать, что от компании вы, может, и избавитесь, а вот с потребностью вы ничего не сделаете. Ну и риск потерять отношения крайне велик. Чтобы получить нужный результат, нельзя действовать на полшишечки. Рубить – так с плеча.
Этот способ прекрасен в качестве интеллектуальной разминки. Обдумать, при каком стечении обстоятельств вы готовы на крайние меры. Такое обдумывание позволяет снизить тревогу и дерготню по поводу всех обстоятельств, которые вы сами не посчитали крайними.
3. Диалог. И нет, это не то, что делают 90 % родителей.
Когда я пишу «диалог», я имею в виду, что вы за собой оставляете право транслировать и аргументировать свою позицию, но не предпринимаете действий по контролю и ограничению общения. Позицию свою озвучивать тоже желательно по запросу, а не при каждом удобном случае. Иначе вы быстро превратитесь в белый шум по этой теме. Основная ваша цель в рамках этого способа – поддержание и развитие отношений между вами с подростком. И только вторая цель – донести свои тревоги и попытаться уберечь от глупостей. Важно осознавать, что этот метод вам ничего не гарантирует. Скорее всего, ребенок продолжит общаться с теми, с кем хочет. Но вы получаете серьезный шанс на то, что если ваш подросток действительно влипнет, то он обратится за помощью к вам. А вы поможете.
Этот способ прекрасно сочетается с правилами. Особенно если их немного, они не меняются и не корректируются в зависимости от вашего настроения. Например, у вас в семье строгое правило на запрет употребления алкоголя без согласования с вами. Тогда ребенок, который тусил с плохой компанией и дернул пивка, получает от вас трендюлей и оговоренное наказание. Не за то, что он тусил с ребятами (очень важно, чтобы вас не понесло), а за то, что нарушил правило.
Для повышения уровня собственного спокойствия можно повспоминать друзей своей юности. И как к ним относились ваши родители.
А еще, если вы действительно хотите ребенка уберечь, то стоит обратить внимание не на то, с кем он общается, а на то:
• насколько он уверен в себе и какая у него самооценка;
• умеет ли он принимать самостоятельные решения;
• есть ли у него цели и увлечения;
• насколько ему комфортно в его жизни.
Благополучный человек с головой на плечах не попадет под влияние дурной (по мнению родителей) компании.
Почему их тянет на «всякое говно», или Кого они смотрят и слушают
Любопытное исследование[4] канадских авторов я однажды накопал в подтверждение очередной из своих идей.
Не секрет, что в подростковом возрасте одной из задач психики ребенка становится поиск других значимых взрослых – «кумиров». В моей голове давненько брезжит мысль, что фантастический успех подростковых блогеров на «Ютьюбе» связан с попаданием в эту потребность. То есть место «плохих парней со двора» заняли блогеры.
Речь идет в основном о влогах, рассказах и рассуждениях о жизни от первого лица. «Интимно-исповедальный контент». Исследование разбирает, каким образом подростки-влогеры влияют на социализацию и поиск значимых других у подростков – потребителей контента. И как потребители контента помогают авторам блогов решить свои задачи психики. И автор влога, и зритель хотят видеть себя в других подростках (отражение самих себя), ищут социального признания у других подростков и стремятся иметь социальную ценность. «Значимые другие» придают миру подростка смысл, показывают поведенческие модели, позволяют пережить чувство «меня понимают», дают ощущение легитимности собственных переживаний.
Любопытный эффект: контент становится темой для обсуждений в подростковой среде, таким образом облегчая процесс социализации. В итоге у подростков развивается чувство привязанности к ютьюберам, которые, в свою очередь, выступают в качестве образцов для подражания и гидов в мире взросления.
Подростковая социализация представляет собой двойную потребность в общественном признании. Это одновременно и способность узнавать самого себя в других, и отождествить себя (я такой же, я принадлежу), и потребность быть признанным другими, то есть быть увиденным как индивид с социальной ценностью. Быть принятым vs выделиться.
Ориентация на кумиров-влогеров позволяет разрешить этот важный парадокс. «Я чую общность с кумиром, я принадлежу к той же группе, что и он. Я принадлежу к группе его поклонников. Вместе с тем влогер выделяется, а раз мы местами идентичны, то я тоже выделяюсь».
Интересный раздел исследования касается приемов, при помощи которых влоги становятся настолько востребованными. Вот эти приемы:
• обращаться лично;
• говорить о том, что важно аудитории;
• спрашивать мнения;
• отвечать в комментариях;
• использовать понятную стилистику и лексику;
• признаваться в любви;
• выражать эмоции;
• говорить искренне;
• обозначать общность.
Смотрите, прямо инструкция для родителей!
Влогеры сумели встроиться в психологические задачи подросткового возраста. То, что подростки смотрят «Ютьюб», фанатеют от влогов, обсуждают между собой контент – это нормально. Это наша новая реальность, с ней бесполезно бороться.
Но есть чему поучиться с точки зрения установления контактов с подростками.
Родитель – это не друг!
Многие родители говорят: я хочу стать другом своему ребенку. Похвальное желание, если это означает, что вы готовы освоить инструменты общения, которые используют между собой друзья. Но дальнейшей ошибкой будет то, что родители подменяют понятия. Становятся готовы буквально снять с себя все родительские функции, чтобы все друг другу рассказывать, чтобы не было секретов.
Например, мама, которая воспитывает мальчика-подростка одна, вывешивает на него свои проблемы, обижается на него, когда он не берет на себя ответственность. Обижается как на взрослого человека, как на партнера. Хотя это более глубокая история, чем «хочу быть другом».
Если родитель обижается, это означает, что он поставил подростка в какую-то другую роль: не ребенка, а взрослого, который что-то должен. Иногда это связано с тем, что родители пытаются передать ответственность за принятие решений: типа реши ты, куда мы поедем, на что потратим деньги. Или «реши, с кем ты хочешь жить после развода» и так далее. А у ребенка может подскочить тревожность, потому что такие вопросы – не его зона ответственности.
Подростку важно «найти своих и успокоиться», и родитель не должен замещать ему эту группу! Я считаю это страшной ошибкой, которая противоречит эволюции и всем законам психики, возрастной психологии. У подростка сверхзадача возраста – отделиться от родителей. Но если не будет родителя, то от кого отделяться? И взросление не произойдет. Таким образом, вы забираете у него важную фигуру, ему становится «не с кем воевать».
Нам как бы становится легче, мы ничего не требуем. И вот здесь велик риск того, что мы не сможем стать другом и сами потом будем обижаться, что не имеем преференций друга. Например, дочка не хочет с нами в отпуск, не хочет делиться секретами.
Но на самом деле и с позиции родителя можно помочь подростку пережить эмоции, научить разделять проблемы и страхи. Родители тоже все это могут. Иногда, правда, нам очень мешает родительский страх. Когда что-то идет плохо, мы, вместо того чтобы сопереживать, начинаем проблему решать, а еще чаще – по шапке даем «на всякий случай, чтобы вдруг ничего страшного не произошло».
Подведем итог: родитель может использовать те же инструменты и форму коммуникации, что и друзья (использовать юмор, сленг, говорить на личные темы, переписываться, обмениваться мемасиками), но при этом не нужно стремиться действительно тянуть эту роль. Это место принадлежит сверстникам. И подростки все равно будут выбирать сверстника.
Родителям не нужно вытеснять сверстников из жизни подростка. У вас разные роли. Друзей не надо выживать, не надо и воевать с ними, и копировать их. Все равно проиграете в этом. У вас сейчас одна роль: любить, кормить и доверять. Отличная формула для взаимодействия с детьми.
Желаю вам сил, терпения и дзена. Помните, подростки превращаются в нормальных взрослых, если им особо не мешать.
Самопознание, отношения со своим будущим
Что они думают о будущем? Что их привлекает и во что они верят?
У подростков зачастую феерические представления о собственном будущем: блог, острова, бизнес, миллионы, успех и все такое. И очень туманное видение пути к этому невероятному счастью. Но это нормально.
Родители устают биться лбом об стену и показывать, как действия сейчас влияют на результаты в будущем. Юра Дудь, например, выпустил фильм о Кремниевой Долине, мекке всех стартаперов мира. Родители в восторге смотрят трехчасовой фильм вместе с подростками в надеждах, что вот-вот чадо начнет шевелиться… но нет. (И это тоже нормально!)
Независимо от того, как они видят свое будущее, втюхивать им свое видение – не нужно. «Они пока ничего не понимают, потом спасибо скажут» – не скажут.
Здесь приведу типовой актуальный пример: подростки в эмиграции. У меня хватает клиентов из-за границы, и есть общие проблемные места. Подросткам сложнее, чем детям в ситуации, когда все сорвались и переехали в другую страну. Подросток завязан на окружении, на привычной модели мира и себя, у него вбита в голову история, как он будет развиваться, расти и куда станет идти, даже если он от этого открещивается. И вот он оказывается в ситуации, когда нужно строить новую жизнь, только он еще и не самостоятельный, не он это решение принял.