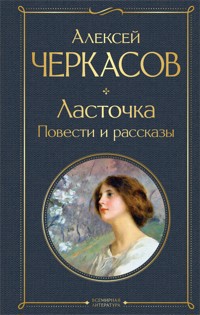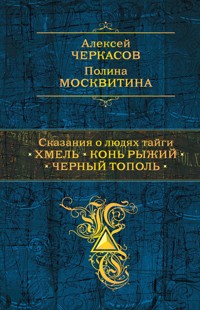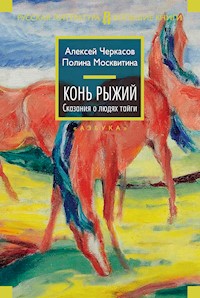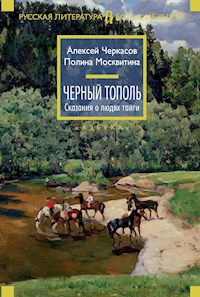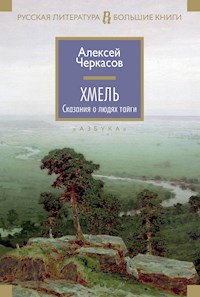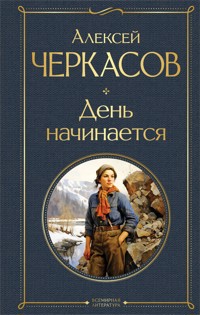
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Роман «День начинается» (1949 г.) посвящен трудовым будням советских геологов. В центре сюжета конфликт главного героя, страстного искателя и мечтателя, с равнодушным окружением. Роман представляет краеведческий интерес. Он рекомендован читателям, которые хотят узнать больше о Красноярском крае, нравах и быте послевоенной эпохи, а также поклонникам русских региональных саг («Угрюм-река», «В лесах» / «На горах», «Каменный пояс», «Вечный зов» и др.).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Алексей Черкасов День начинается
© Черкасов А. Т., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Тому, с кем создана эта книга, – Полине Дмитриевне Москвитиной – ПОСВЯЩАЮ.
Глава первая
1
Ветер гнал тучи…
Все вокруг взвывало, дымилось. Город на Енисее, словно огромная птица, распластав свои мощные крылья по берегам скованной льдом реки, смотрел в мятежную мглу ночи тысячами оранжевых светящихся глаз. Улицы города были пустынны. Не видно было прохожих; автомобили не расписывали мостовые своими узорчатыми шинами; многоэтажные дома по проспекту Сталина, невидимые во тьме, казались призрачными, таинственными: точно каменные стены их растворились в воздухе, и только желтые квадраты окон висели еще над землею, но и они то там, то тут гасли.
Но и в эту буранную ночь жизнь шла своим чередом…
Под крышами заводских корпусов умные руки человека шлифовали торпеды и мины, обтачивали стволы пушек и головки снарядов – все это делалось спокойно, деловито. Инженеры создавали новые конструкции и так же, как всегда, то радовались успеху, то огорчались неудачами.
К городу шел пассажирский поезд из Хакасии. Прощупывая дорогу снопами света паровозных фар, он извивался на изгибах идущего под уклон пути, как огромная трехглазая змея. Поезд пробивался навстречу мраку, ветру и мокрому снегу.
С этим поездом возвращался из разведки отряд геологов.
Геологи занимали предпоследнее купе в общем вагоне. В маленьких, наспех сколоченных ящиках отряд вез с собою образцы рудных минералов и все то подручное, что можно было захватить. На двух верхних и багажных полках всхрапывали рабочие и буровые мастера, в телогрейках, полушубках, бахилах, заросшие и грязные от долгого пути и горных работ. Внизу дремали геологи Муравьев, Одуванчик, Чернявский и Редькин. Матвей Пантелеймонович Одуванчик, поджарый интеллигентный мужчина лет сорока пяти, с птичьим носом и брезгливо поджатыми губами, то дремал, покачиваясь всем корпусом, то вдруг начинал энергично двигаться, осматривать себя со всех сторон, щупать карманы борчатки, охорашиваться, обтирая свое длинное лицо большим клетчатым платком, или начинал говорить, обращаясь к первому, с чьим взглядом случайно встретился в ту или иную минуту. И даже засыпал он как-то сразу, на полуслове. Рядом с ним, развалившись, вытянув ноги по проходу, спал кругленький, осадистый Тихон Чернявский, выдувая носом такие звучные мелодии, что даже Одуванчик вздрагивал.
По правую сторону от Одуванчика, в углу, у столика, занимала укромное место женщина в старенькой шинели. Она точно стеснялась своей рваной солдатской шинели, потому так и жалась в углу, в тени. Руки она спрятала в обтрепанные рукава, воротник подняла, так что и головы не видно было. У ее ног стоял повидавший виды черный чемодан, к коему были прикреплены ремнем какие-то бумаги.
Напротив женщины в шинели, облокотясь на столик рукой, ссутулившись, сидел Григорий Муравьев, в меховой кожаной тужурке с застежками «молния» и таких же меховых брюках, вправленных в болотные сапоги с широкими раструбами голенищ. Он беспрестанно курил, прикуривая одну цигарку от другой. Волосы у него были растрепаны, черные, как смоль, и он их то и дело взъерошивал, тяжело вздыхая. Как видно, думы у инженера Муравьева были не из веселых! Рядом с ним лежал белый овчинный тулуп, лисья красная шапка с длинными ушами, двуствольное ружье с патронташем и вместительный рюкзак на ремнях. У ног его, свернувшись черным комом, дремал здоровущий кобель Дружок, к которому хозяин изредка наклонялся, гладя его по голове. «Да, Дружок, положение наше не из веселых, но стоит ли вешать голову? Будем же мужчинами!» – как бы говорили жесты хозяина и его тяжелые вздохи.
Двухосный старенький вагон скрипел, подпрыгивая на стыках, отчаянно встряхивал, будто в этом и состояло его главное назначение. Матово-мутный свет стеариновой свечи над дверью слабо прорезывал густой сумрак.
За станцией Минино в вагоне зашумели, заговорили, возникла та своеобразная суета, когда пассажиры еще за сто километров до своей станции готовятся к выходу.
– Ну-с, мы, кажется, вырвались из мрака таинственной неизвестности, – заявил Одуванчик, толкнув в бок храпящего Чернявского.
На ящичках проснулся Гавриил Редькин, угрюмый, сутулый человек со сросшимися над переносьем толстыми бровями, косящий на оба глаза, проворчал себе под нос, выругал допотопный вагон со всеми его «архиерейскими» удобствами, а тогда уже, широко зевнув, вытащил из кармана бушлата кисет и, закуривая, топчась возле столика, невзначай наступил на ногу женщины. Та вскрикнула.
– Что вы, не видите, что ли?
– А ты не расшеперивайся! – пробурлил Редькин, свистя толстым висячим носом, словно лез в гору. – Залезли в чужое купе, да еще визжите тут. Важность!
– Вагон общий, – возразила женщина.
– Купе забронировано для геологов. Ясно? Можете опростать место; самим негде сесть. Выгружайтесь.
– Совершенно верно, – поддержал Одуванчик участливым голосом. Трудно было понять, к кому обращены его участливые ноты: к женщине ли или к медвежковатому верзиле Редькину.
Тихон Чернявский, продирая глаза, поднялся с места, подошел к незнакомке, нагнулся, бесцеремонно заглянув ей в лицо.
– Курносая, побей меня гром! – басом известил он. – Кто это нарядил тебя в серую суконку, детка, а?
– Война.
– Война! В точку попала! – захохотал Чернявский. – Ты подаешь надежды, детка. Тятька с фронта на порог – дочка в шинель и айда в дорогу, ха, ха, ха!.. Ну ничего, мы тебя зачислим в нашу партию. Считать до пяти умеешь? Будешь у нас за коллектора отряда, камушки перебирать. Харчей хватит, работенка – не бей лежачего. Выдадим тебе полушубок, сапоги вот с такими голенищами, а там, глядишь, к осени заработаешь на котиковое манто, а то и чернобурку прихватишь.
– Ей лучше бобра, – крикнул Редькин, нарочито пуская махорочный дым в лицо незнакомки.
– А вы меня не окуривайте!
Редькин, не обращая внимания на замечание, затянулся и снова выпустил такой клуб вонючего дыма, что женщина закашлялась.
– Ну, ты брось эти штучки, – осадил Редькина Чернявский, вклиниваясь на лавку между Одуванчиком и незнакомкой. – Что ты так жмешься в угол, детка? Будь смелее! Из какой деревни будешь, а?
– С ленинградской, дядя. – В голосе незнакомки, совсем не детском, слышалась грустная ирония усталого человека.
Одуванчик понимающе хихикнул.
– Теперь все из Ленинграда, – сказал он. – Город легендарный, в доподлинном смысле, как не назваться ленинградкой?
– Похожа вилка на бутылку, – захохотал Редькин.
– Ничего, ее Ленинград впереди, – возразил Чернявский, снова пытаясь взглянуть в лицо незнакомки. – Вот как приедешь в наш город на Енисее, детка, так дуй пешком через Енисей, тут сразу и увидишь Ленинград. Только не забудь Гаврилу пригласить в провожатые. Он у нас геолог симпатичный, обстоятельный: покажет и расскажет, что к чему.
– Пусть ей лешак показывает, но не я, – отрезал Редькин, покидая купе. Следом за ним подался Одуванчик, на ходу сообщив, что буран, вероятно, возник из таинственного теплого циклона, проникшего из-за Каспия на север.
Ветер взвывал за обледенелыми окнами. Вокруг печки-буржуйки в конце вагона толпились дети, женщины с узлами и свертками. Махорочный дым плавал густым облаком, как туман в осеннюю пору над озером.
Муравьев сказал Чернявскому, чтобы рабочие подготовили ящики к выгрузке через нерабочий тамбур, о чем он уже договорился с проводником.
– А подадут нам машину? – спросил Чернявский, царапая в затылке.
– Я же дал телеграмму.
– Хо! Телеграмма! А буран? Ворочает черт-те как! И будем мы до утра торчать на вокзале с ящиками!
Это предложение ввергло Чернявского в минутное раздумье. Но он вовсе не беспокоился о ящиках, а думал о том, встретит его на вокзале строптивая возлюбленная Павла-цыганка или не встретит.
2
Чем ближе подходил поезд к большому сибирскому городу, тем беспокойнее чувствовала себя женщина в шинели. Она то взглядывала в обледенелое окно, к чему-то прислушиваясь, то снова зябко прятала руки в рукава, погружаясь в свои безотрадные думы. Вся она испуганно сжалась в комочек, словно впереди, куда она ехала, ждало ее что-то страшное.
Это ее мятежное состояние удивило Муравьева, он спросил:
– Вы что, и в самом деле из Ленинграда?
– Я? Вы ко мне? – растерянно пролепетала женщина, слегка выдвинув голову из воротника шинели. – Да, из Ленинграда.
Чернявский, распоряжаясь выгрузкой ящиков, посмотрел на незнакомку через плечо, отвернулся и вышел из купе.
– Давно? – продолжал Муравьев.
– Еще в декабре меня вывезли в сызранский госпиталь. А с июня еду…
– Далеко ли?
– Не знаю… Тут сойду, в этом городе. А там, дальше, я еще не знаю.
– Как то есть не знаете? У каждой дороги должна быть конечная станция. Дорог бесконечных не бывает. – Муравьев пожал плечами, близоруко щуря глаза, присмотрелся к женщине, но ничего не высмотрел. – У вас что, родные здесь?
– Ни родных, ни знакомых. Моя семья где-то в Сибири. Мы эвакуировались из Ленинграда. Папа и мама еще в декабре сорок второго выехали машинами через Ладожское озеро. Я – отстала… А тут вагоны, вокзалы… От Уфы наш эшелон направили в Чкалов и там оставили всех ленинградцев… Я… Я… Папа говорил, что если будем эвакуироваться, то выедем в Новосибирск или в этот город. Но в Новосибирске их не оказалось. Вот теперь сюда еду. А тут так холодно…
Слышно было, как ветер завывал и бился в стенки вагона.
– Какой страшный буран! Тут, наверное, всегда такие бураны?
– Зима начинается с буранов, – ответил Муравьев.
– И мороз, кажется?
– Чувствуется, что крепко подморозило. А у вас что, кроме этой шинели, ничего нет?
– Что же у меня может быть еще? – ответила вопросом ленинградка. – И шинель-то чужая. Это мне начальник сызранского госпиталя пожаловал шинель на добрую память. Так вот случилось…
– Где же вы остановитесь в городе?
– На вокзале, верно.
– Вокзал – плохое пристанище.
– Лучше, чем никакого. – И как бы извиняясь, сообщила: – Я так измоталась в дорогах, что сил нет. Дальше я не могу ехать. Я все еду, еду! И все – вагоны, вокзалы. Вагоны, вокзалы. Мне кажется, я всю жизнь еду…
Она повторяла: «Вагоны, вокзалы, и все еду и еду», – словно этими словами определяла и свое душевное состояние, и свое будущее. Муравьев вздрогнул от острой жалости, поняв ее невысказанный, но страшный своей явственностью вопрос: «Что же мне делать дальше?» Голос у нее был приятный, певучий и мягкий. Еще в Ачинске Муравьев даже подумал, что эта женщина села в забронированное геологами купе без билета, потому так и пряталась в тени. Одуванчик даже сел на нее и, когда она подала голос, весьма удивился присутствию женщины «во мраке таинственной неизвестности», извинился и отодвинулся подальше, предусмотрительно положив недремлющую руку на саквояж и чемодан. За станцией Черная Речка Муравьев из чувства сострадания оттеснил было контролера от купе, занимаемого геологами, но незнакомка сама предъявила билет и опять нырнула в угол.
Сейчас Муравьеву захотелось этак невзначай заглянуть незнакомке в лицо, посмотреть, что за девушка, почти всю блокаду делившая с ленинградцами «горе пополам», но от одной такой мысли ему стало стыдно и нехорошо. Какое ему дело? Пусть она будет безобразная, чересчур курносая, но она больше двух лет провела в блокаде, голодала, мерзла, и вот едет в Сибирь в поисках семьи, и, быть может, потому, что она такая скромная, стыдливая и менее пронырливая, чем другие, едет вот так, в битком набитых вагонах, пряча себя и свое лицо, страдает, проклинает от горя фрицев, войну и свою лихую судьбину.
Думая так, хмуря в строгом изломе черные брови, Муравьев закурил и сказал:
– На два-три дня и вам найду квартиру. Я живу здесь. Вообще, я найду вам квартиру, – и вдруг рассердился.
– Зачем? – удивилась и чуть даже будто бы испугалась она. – Я хорошо привыкла и к вокзалам. Нет, нет, не надо.
– Чепуха какая! На вокзале… Здесь вам, знаете ли, не Кавказ и не Южный берег Крыма. Сибирь!
– Я, может, поеду в Иркутск еще.
– В Иркутск? Зачем?
Незнакомка ничего не ответила.
– Так вы и будете ездить по белому свету, пока не умрете в дороге, – невесело усмехнулся Муравьев. – Вам нужно начать самостоятельную жизнь, оседлую, гражданскую, а не искать родичей.
– Я затем и еду в Сибирь, чтобы начать жизнь.
– Тем лучше. Начинайте ее смелее, и все будет хорошо, уверяю. У меня вот тоже ни отца, ни матери, а живу. Отца я совсем не помню: погиб он во время колчаковщины; а мать умерла, когда мне было семь лет. А ничего, выжил. Университет окончил, работаю как все. Правда, все мои родственники – дяди, тетушки и всякие знакомые – здешние старожилы, но скажу вам правду: знакомые и родственники не подставят своих рук, если собственные руки будут висеть вдоль тела, как плети. Первое время, конечно, будут трудности. Да бывает ли жизнь без трудностей? Так что не стоит падать духом.
– Да, конечно. Трудно только начать.
Муравьев глухо кашлянул и, глядя себе под ноги, проговорил:
– Я вам помогу начать.
Незнакомка вдруг сразу выпрямилась, что-то хотела сказать, но завывающий ледяной ветер за окном точно связал ей язык. Она опять сжалась в комочек, зябко втянула голову в воротник, прерывисто вздохнула.
Поезд подошел к станции.
3
На вокзале снег, гонимый бурею, крутился вихрями и лип, как пластырь, на вагоны и пассажиров. На перроне намело сугробы. Сигнальные огни стрелок и семафоров тонули в непроницаемой мгле. Даже водонапорная башня еле вырисовывалась в густой пороше снега.
Незнакомка в шинели сперва хотела уйти в вокзал вместе с пассажирами и там остаться до утра, но вьюга будто прижала ее к земле. Ветер, налетая со всех сторон, обжимал ее рваной шинелью и продувал насквозь. Снегом било в лицо. Ноги, обутые в солдатские сапоги с кирзовыми голенищами, коченели. А вокруг – тьма. Ветер, и ветер, и снег, снег. Ей стало просто страшно, и она инстинктивно жалась к людям в телогрейках и теплых полушубках, выгружающим из вагона тяжелые ящики в автомашину.
– Пошевеливайся, пошевеливайся, – подбадривал рабочих Чернявский. Рядом с ним стояла геолог Павла-цыганка, похожая на большую снежную куклу.
Мороз крепчал.
Грея руки на радиаторе теплого мотора, незнакомка отыскивала глазами того, кто предложил ей пристанище и участие. Он не забыл о ней. Когда пассажиры, толкаясь в проходе, покидали вагон, он подошел к ней, спросил, не наденет ли она его тулуп, но она отказалась. Сейчас она с удовольствием укуталась бы в его тулуп!.. Еще у вагона Муравьева встретила порывистая, вся запорошенная снегом девушка в котиковой шубке и в пуховой шали, с которой он отошел в сторону и разговаривал сейчас, называя ее Катюшей.
Они стояли шагах в трех от незнакомки.
– Ох и ветер же, Гриша, – громко говорила Катюша. – Ты пощупай, как у меня зашлись руки. Просто окоченели. Если бы ты знал, как я тебя ждала этот раз!..
И сердце незнакомки пощипывала грусть: она тоже ждала, и не месяц, не два! Но ей никто не обогреет рук, не скажет ласкового слова…
– А что ты такой хмурый, Гриша? – слышится голос Катюши.
– А отчего бы мне быть веселым? – зазвенел голос Муравьева, тяжелый, насыщенный гневом. – Тут у вас побывал представитель из главка, да? Анна Ивановна писала своему Одуванчику, что мой проект по Приречью положили на лопатки. А вот ты мне что-то ничего не написала.
– Я? – голос Катюши дрогнул. – Я же знала, что ты все узнаешь от Одуванчика.
– Хорошенькое дело! Узнай от Одуванчика через секретаршу начальника, Анну Ивановну, но не от своих друзей. Выходит, друзья до черной пятницы?
– Как ты можешь так говорить мне? – вспылила Катюша, выдернув руки из теплых ладоней Григория. – Что я могла написать? Что представитель главка потребовал для внесения в план работ на будущий год по Приречью – обоснованный материал? А разве ты сам не знаешь, что такого материала у тебя нет? Есть предположения, есть мечты, желания; но не всегда наши желания осуществляются! Ты и сам это прекрасно понимаешь. И зачем ты только настаиваешь на разведке Приречья?
– Вот оно что! Значит, и ты не веришь в Приречье?
– Я там не была, – ответила Катюша.
– Ясно, ясно. «Не была – не знаю: моя хата с краю». Знакомая поговорочка, Катерина Андреевна.
– Если бы ты поменьше выдвигал себя на передний план…
– Конечно! За чужой спиной всегда теплее, Катюша. И ветром не прохватит. Живи, пыхти в свое удовольствие, как говорит Рсдькин. Но я никогда не прятался за чужие спины. Везу помаленьку в передней упряжке.
– Я вижу, ты меня совершенно не понимаешь, – вспылила Катюша. – И понять не хочешь. Помнишь, как мы ссорились на Алтае? Разве я тогда не говорила, что ты не считаешься с мнением товарищей?
– Помню, Катюша, помню. Великолепно помню. Вы тогда хором трещали: Ардын – пустое место. Уйти, поскорее все бросить и перебазироваться. Да, да. Помню! А Муравьев настоял остаться. И Ардын – крупнейший рудник Алтая. Так и с Приречьем…
– Совсем не так, – перебила Катюша. – По Приречью у тебя нет таких данных, как тогда по Ардыну. Ты и сам не веришь, что Приречье – перспективный район.
– Это вы не верите, а я – верю. И Ярморов верит. И Чернявский верит.
– Что, что Чернявский? – прогудел голос Чернявского со стороны.
– Да вот, Катерина Андреевна говорит, что ты не веришь в Приречье.
– Я? Побей меня гром! Да я бы туда с моим удовольствием хоть сейчас поехал. Немедленно, сию минуту.
Катюша зябко поежилась, пряча руки в меховую муфту. Григорий ее не понимает. Они совершенно разные люди. Разве можно вот так замалчивать разногласия? Он просто индивидуалист, и больше ничего.
– Если бы ты мог доказать, что в Приречье есть крупное месторождение металла, давно бы доказал. Но у тебя есть только одни фантазии.
– И слава богу, что я человек с фантазиями, – отпарировал Григорий. – Геолог без фантазии что птица без крыльев. Не летать, не петь, а небо коптить. Да, да! Есть еще такие коптильщики среди нас. И не в малом количестве. А я предпочитаю ошибаться, творить, дерзать, но не жить бескрылым обывателем. И будь покойна, я докажу неверующим, что значит для государства Приречье. Докажу. Не сразу Москва строилась. Надо думать, тоже находились люди, которые доказывали, что не следует строить город на болоте. Из какой-то грошовой деревушки вырос мировой центр! Ты не думала, почему так вышло? Тут не случайность, а мысль заложена. Удачно нащупали центр всей России, вот в чем дело. Так и Приречье. Я смотрю на Приречье глазами завтрашнего дня. Глазами Енисейгэс; глазами электрических огней! Вот покончат с войной, возьмутся за Енисей и Ангару. Еще в тридцать шестом году велись работы по проектированию электростанции на Енисее. А что это значит? Десятки Днепрогэсов! А база? Где же на Енисее промышленная база? Зачем строить гиганты на Енисее, если не будет базы? Не я сказал, что Сибирь – страна будущего. И это будущее настанет через каких-то двадцать-тридцать лет. Вот и я подготавливаю базу для будущего. Где же эта база? Бассейн Ангары и Енисея; Южно-Енисейский кряж. Дебри настоящего, огни будущего. Вот почему мои планы и проекты поддержала Москва. Я буду драться. Драться буду, черт меня подери!
К незнакомке подошел сутулый мужик в коротенькой телогрейке и стеганых штанах, вправленных в серые пимы. Приглядываясь, проговорил:
– И разыгралась же проклятущая непогодь, язви ее. Што, дева, зябнешь? У нас здеся так: ноябрь только нос покажет – зима всю харю высунет. Седне за тридцатку накачало.
– Ч-чего… накачало? – еле выговорила незнакомка, губы у ней будто одеревенели.
– Чего же боле, градусов, грю, накачало. – И пошел дальше.
– А это кто с вами, та, в шинели? – донеслись до женщины в шинели слова Катюши.
– Фронтовичка из Ленинграда, – сдержанно проговорил Муравьев. – Вот приехала, а приземлиться не знает, где и как.
– С какой стати она с вами?
– Случайно. Попала в наше купе. Я ее думаю завести к нашим на квартиру.
– Кто она?
– Я же сказал, ленинградка.
– Ленинградка! – обозлилась Катюша. – Это еще ни о чем не говорит. Мало ли всяких ленинградок! Что, она одна, что ли? – В голосе Катюши послышалась та нота раздражения, которая свойственна только женщине. – Значит, ты решил оказать ей поддержку? Интересно! Она, кажется, еще молодая?
А ленинградка меж тем, не обращая внимания на слова ревнивой Катюши, стояла все так же возле автомашины, неловко сгорбившись и думая о чем-то своем, грустном и далеком. Ей этот падающий снег напомнил другую картину…
Так же рыхлыми хлопьями падал снег на ледяную Неву в марте 1943 года, когда она пробиралась по набережной с сумкой Красного Креста. А на берегу Невы, невдалеке от Дворцового моста, лежал раненый лейтенант флота… Он тянулся к ее рукам. Она под воем снарядов помогла ему подняться и повела в госпиталь. Но лейтенант до того обессилел от потери крови, что едва волочил ноги. В развалинах какого-то административного здания, на груде щебня и кирпичей, она сделала ему перевязку головы и левой руки. Он дышал с трудом и выглядел ужасно слабым – такой большой, и совершенно беспомощный, как ребенок. Она засунула ему руку под гимнастерку и нащупала мокрую нательную рубашку. По хрипам, тяжелому дыханию догадалась, что он ранен в грудь…
И хоть бы кто-нибудь проходил мимо тех развалин! Рядом догорала деревянная постройка, отчего в руинах было светло и по углам метались резкие черные тени. Шел и шел снег. Беспрестанно рвались снаряды на Неве, вздымая к небу фонтаны воды и крошку льда. После перевязки она укутала его шинелью и дала ему немножко спирту. В ее сумке в пузырьке был спирт – всего один глоток. Раненый с жадностью высосал весь спирт из флакончика, закашлялся и, уронив свою большеглазую голову на ее руки, бормотал в забытье о чем-то отрадном, но далеком и не мирском. Неудержимая злоба против войны вспыхнула в ней и комом подступила к горлу. Война надела на нее сумку Красного Креста. Бойка смяла ее девичество, и вот на ее руках умирающий лейтенант флота…
Но она не хотела, чтобы он умер.
Сколько прошло времени в таком положении, она не помнит. Руки ее закоченели, но она знала только одно: ему нужно отдохнуть, собраться с силами, и тогда она дотащит его до госпиталя. И действительно, вскоре лейтенант открыл глаза.
– Золотце, да ты совсем ребенок, – удивился он, присматриваясь к ней своими большими, как будто светящимися глазами. Потом он спросил, где его сумка. Сумка была в ее руках. – Тут ничего особенного нет, в моей сумке, но если я сегодня отдам якорь, оставь, золотце, сумку при себе.
Она обещала сохранить его сумку.
– Вот она какова война, золотце, – продолжал офицер. – Давно ли ты бегала с сумкой в школу…
Она сказала, что она студентка художественной академии.
– Студентка? Помилуй меня грешного.
Совсем близко разорвался снаряд. Со стен посыпалась штукатурка. Под ними ходуном заходила земля, будто живая. Офицер не застонал, но, порывисто приподняв голову, выругался.
– Они еще стреляют, – сказал он. – Да, да, они еще стреляют! Но будут… будут другие дни… Будут! Ты веришь, золотце? – и строго, вопросительно посмотрел ей в лицо.
– Верю. Я верю, – ответила она, инстинктивно закрывая его грудью и чувствуя, как то ли от жалости, то ли от страха слезы горячими струйками покатились по ее щекам.
Он заметил ее слезы.
– Не надо плакать, золотце, – попросил он. – Не надо плакать! Ленинградцы не из слез, а из твердого сплава. А глаза у тебя… агатовые. Вот умру и унесу тебя с собой. Унесу, унесу, золотце! Какие у тебя красивые глаза! Агатовые, агатовые… Унесу, унесу…
И долго еще говорил безвестный лейтенант флота. И когда моряк в третий раз впал в забытье, она вдруг поцеловала его в сухие, теплые губы и с ненавистью посмотрела в мглистую тьму, туда, откуда прилетали вражеские снаряды. Потом подошел патруль, и его унесли. В ее руках случайно остался тяжелый, в кожаном переплете, том сочинений Гете, принадлежавший безвестному лейтенанту флота…
И Юлия хотела еще повидать его, но не знала, где он.
На другой день она зашла в госпиталь на Невском проспекте, и там ей сказали, что вчера, 27 марта 1943 года, во втором часу ночи санитарный патруль доставил в госпиталь лейтенанта-моряка, который вскоре умер. Но тот ли это был лейтенант? Нет, этот моряк был ранен в живот. А где же тот, которого она нашла на берегу Невы? И потом много дней бродила она по Ленинграду без дум и желаний, точно все тепло ее жизни унес с собой безвестный лейтенант флота. Иногда думала, что моряк умер. «Он жив, жив, – твердило ей сердце. – Такие вдруг, сразу не умирают. Но где он? Где? Если бы я знала!..» Ее сердце всякий раз, когда она вспоминала его, наполнялось терпкой горячей болью. Она боялась признаться себе, что любит.
«Почему он говорил мне, что у меня агатовые глаза? – иногда спрашивала она себя. – Это ему показалось. Правда, ночью у меня глаза кажутся черными». И она хотела, чтобы моряк увидел ее глаза днем. Но то, что он никогда не увидит ее глаз днем, пугало ее. Она старалась отогнать эту мысль как вздорную, чужую, мешающую жить. Сомнения и колебания, которые возникали в ее душе, когда она думала о нем, сердили ее. Стараясь уйти от сомнений, она работала до полного изнеможения и все-таки избавиться от тревоги не могла. «Жив ли он? И кто этот моряк? И где он?» Чем чаще ее трепещущая мысль возвращалась к нему, тем ярче он вырисовывался в ее сознании.
В особенно трудные минуты, когда, обессилев от голода, не могла подняться на третий этаж своей нетопленой квартиры, она звала его на помощь. И он приходил к ней с тем же ласковым, умным и добрым взглядом больших светлых глаз, и ей становилось легче…
«А как я буду жить в этом городе? – подумала ленинградка, наблюдая, как ветер гнал мглистую порошу снега и лепил рубчатые барханы сугробов. – Как я буду жить здесь? А если он жив? Тогда… Тогда я его навсегда потеряла. Навсегда! Разве он подумает, что та, которая держала его голову на своих руках, теперь за пять тысяч километров от Ленинграда? А он – там, там, там… Зачем я уехала? Там все меня знали. А здесь…»
Да, ее знали и уважали в Ленинграде. И много-много нашлось бы углов, где она могла бы обогреться в такую взвихрившуюся снегом буранную ночь. «Маленькая, обогрейся», – сказали бы ей там. И те солдаты и матросы, которым она сперва неумелыми руками бинтовала раны, улыбались бы ей добрыми глазами. А тут, в этом городе…
– Что же вы, поедемте? – Муравьев тронул ее за рукав.
– П-поедем? Ку-куда? – выговорила она.
– Пойдемте в кабину, да поживее. Вы, кажется, окончательно замерзли.
Он подвел ее к кабине шофера, где в это время сладко вздремнул Одуванчик.
– А? Что? Приехали? – отозвался Одуванчик на толчок Муравьева. – Освободить место для гражданки? Гм!.. Позвольте, позвольте, Григорий Митрофанович! У меня радикулит, извините. В кузове не могу, никак не могу.
– Никакого радикулита у вас нет, вы здоровее египетского слона! А вот совесть у вас действительно подмерзла. Освободите место для женщины.
Что еще сказал Муравьев Одуванчику, поднявшись на подножку, неизвестно, но Одуванчик выкарабкался из кабины и, жалуясь на грубость Муравьева, протянул руки Редькину, который затащил его в кузов, перевалив через борт, как куль с мякиной. Сам Муравьев сел в конце кузова по соседству со своим Дружком.
Широкобедрая Павла-цыганка, прижимаясь могучим телом к Тихону Павловичу, певуче рассказывала своему другу о недавнем неприятном разговоре с начальником геологоуправления Андреем Михайловичем Нелидовым, отцом Катюши.
– Вызвал он меня в кабинет, – говорила Павла, широко жестикулируя, – садись, говорит. Я села. А он ходит этак из угла в угол и своими черными глазищами на меня зыркает. Ну, думаю, быть беде, а сама сижу себе спокойно, как ни в чем не бывало. «С Чернявским, говорит, гуляешь?» «Гуляю». Он сверкнул глазами, пригнул голову. «А у него, говорит, жена и двое детей. Как же, говорит, ты себе позволяешь подобную распущенность?» Тут во мне будто закипело все. «В чем же, спрашиваю, распущенность, Андрей Михайлович? Или я хвостом верчу перед первым встречным, или как? С Тихоном, говорю, любовь у меня не вчерашняя, не прошлогодняя, а довоенная. Любила Тихона и любить буду, пусть хоть все геологи на дыбки встанут. Я разве, говорю, виновата, если на все управление три парня и те заняты? Что мне, с телеграфным столбом гулять, что ли? Или вы думаете, Павла-цыганка не живой человек? Может только производственный план выполнять? А я имею еще один план: чтоб у меня был сын; собственный сын, вот что! А где его взять, скажите пожалуйста?!» Он, знаешь, даже закашлялся. Я так думаю: на лето он разгонит нас в разные партии.
Тихон Павлович, в свою очередь, теснее прижимаясь к возлюбленной, как бы без слов уверяя ее, что на свете нет такой силы, которая могла бы разогнать их в разные стороны, сообщил между прочим о ленинградке, которую Муравьев пригласил на квартиру, и что он, Тихон Павлович, если бы имел подходящий угол, тоже не остался бы безучастным к судьбе девушки, пережившей все муки земного ада. Павла сразу же угадала недоброе: так вот отчего настроение Катюши Нелидовой резко упало после встречи с Григорием!
– Если бы ты пригласил ее к себе, – предупредила Павла, зло шипя в самое ухо Тихона Павловича, – я бы тебе шары-то выдрала, сом. Куда суешь руки, лешак?
– Да ты что? – очнулся Чернявский, освободившись от приятной любовной мечтательности.
– А ничего. Все вы на одну колодку.
А буран дул. Вихрился колючий снег. Впереди с надрывным ревом, тяжело пробивая сугробы, шли машины. Катюша что-то спрашивала у Одуванчика о результатах разведки в Сычеве, откуда возвращался отряд; богатая руда или бедная, каковы ее запасы, имеют ли они промышленное значение и т. п. Одуванчик добросовестно отвечал на все ее вопросы и внезапно сообщил:
– Та, в кабине, симпатичнейшая особа! Искра, молния. Уверяю вас, – раздельно произнес он, косясь на Муравьева: не слышит ли тот его слов. – Поверьте, Андреевна, моему опыту и глазу. У Григория Митрофановича в доподлинном смысле завязка любопытнейшего романа, м-да. Видите, как он погрузился в думы?
– И что же? Кто она, та ленинградка? – хриплым голосом спросила Катюша, низко опуская голову.
Одуванчик рассказал, что знал.
– Она – интересная?
– Как сказать! Для меня – ничтожество. Если поставить рядом с моей Анной Ивановной…
– Не с Анной Ивановной, а вообще?
– Не сравнивая с моей Анной Ивановной – отвечу утвердительно.
На этом их разговор оборвался. Одуванчик натянул на свои большие оттопыренные уши каракулевый воротник, упрятал птичий нос в шерсть меха и, сладко зажмурившись, предался приятному размышлению о том, как его встретит сейчас жена, Анна Ивановна…
Глава вторая
1
Есть в старинных городах особнячки, где живут семьи со своими особенными традициями, историйками, привычками, вкусами и взглядами. Каждый особняк всегда чем-нибудь да отличается от себе подобных сооружений. У одного зеленые ставни и оранжевые наличники; у другого – ни ставней, ни наличников и крыша вот-вот свалится, как с пьяного картуз; у третьего до того размалеваны все стены, заплоты и ворота, словно его принарядили для коронации. Иногда в тихих провинциальных городах такими особнячками застроены целые улицы.
Таким особнячком был дом на набережной близ пристани, где уже много лет жил Григорий Муравьев в семье дяди по отцу, Феофана Фомича Муравьева, или, как его все звали во дворе, Фан-Фаныча. Некогда дом принадлежал содержательнице питейного дома Рыдаловой, затем перешел в горжилуправление, едва не развалился от ветхости и был продан квартиросъемщикам, которые в нем жили.
Так Фан-Фаныч, мастер пивзавода, превратился во владельца части домика на набережной. Собственно, домовладельцем был не он, а его приемная дочь, Варвара Феофановна…
Домик – буквой Г, четырехквартирный – был не так высок и широк, но достаточно вместителен. Приземистый, наполовину вросший в землю, с низкими, широкими, выпирающими на тротуар завалинками, перекосившийся в сторону Енисея, он, казалось, каждый день собирался тронуться с места: так ему надоело земное существование. Почерневшие и потрескавшиеся от времени бревна и пологая тесовая крыша, не менее перекосившийся заплот из толстущих лиственных плах с высокими, навалившимися на тротуар столбами калитки и ворот никогда не привлекали внимание постороннего человека: разве прохожий, опасливо кося глазом на столбы, ускорял шаг, подумывая, как бы не стать здесь случайной жертвой.
Квадратные, маленькие, как бойницы, ниши окон с частыми переплетами почерневших рам, тускло смотревшие на пригорок улицы, держались также не на одном уровне: первые четыре окна были на бревно ниже следующих трех окон. С наступлением сумерек ниши окон наглухо задраивались толстущими ставнями с железными накладками, точно обитатели его чурались суетного мира, замыкались в четырех стенах, как устрица в раковине. Ночью дом казался необитаемым: от него веяло древностью былых времен. Ни единого звука не вырывалось в улицу из его стен.
Феофан Фомич и Пантелей Фомич поселились в этом городе лет пятнадцать назад. Муравьевы родом из Черниговской губернии. Еще в 1907 году четверо братьев – Митрофан, Павел, Феофан и Пантелей – выехали с Украины и осели на богатых просторах сибирской земли. Павел Фомич, как наиболее пробойный и умный мужик, избрал себе профессию строителя. И вот уже более тридцати лет он преуспевает в своем занятии. В Минусинске он выстроил мост и паровую мельницу. Вел строительство железнодорожных мостов на Хакасской ветке… Старший из братьев Муравьевых, отец Григория, Митрофан плавал механиком на пароходе купцов Гадаловых. В годы Гражданской войны он был командиром одного из партизанских отрядов в Забайкалье и погиб в боях с семеновцами. Мать Григория, Клавдия, в двадцатом году умерла в доме Феофана на прииске Кирка, оставив Феофану доращивать малолетних племянников Федора и Григория.
Феофан и Пантелей много лет работали на приисках Сибири. Тридцать лет назад Феофан соединил свою тихую, беззлобную жизнь с бурной сухопарой приискательницей Феклой Макаровной. И все тридцать лет проклинает тот час, когда он женился, а развестись с Феклой Макаровной никогда не замышлял. Поселившись в этом городе, Феофан сразу определился на пивоваренный завод. Теперь он единственный в крае мастер пивоварения. На прииске же нашел себе спутницу, дородную Дарью Ивановну, крутой характером Пантелей. Приверженный к горным работам, Пантелей и не расставался с этой профессией. Вот уже более семи лет как он – старший буровой мастер геологоуправления. Как у Феофана, так и у Пантелея детей нет и не было, чем братья очень огорчались.
Приемная дочь Феофана, Варвара, явилась личностью довольно самобытной. По своей натуре Варвара была страстной художницей, беспокойной, неугомонной, чего-то ищущей и всегда неудовлетворенной. Из-под ее рук выходили замечательные изделия вышивки по полотну. Она вышивала гарусом портреты вождей, да так, что не всякий художник мог бы изобразить и кистью. Вышивала виды тайги, любопытные пейзажи, красноярские знаменитые Столбы и всякую всячину. Руководила кружком художественной вышивки при Доме Красной Армии, была непременным членом десятка городских комиссий. Ее можно было видеть на заседаниях крайсовета, горсовета, горжилуправления, в завкоме ПВРЗ, мехзавода, мелькомбината, в крайздравотделе, крайоно, короче говоря, везде, и очень редко дома. В доме она держалась властно, но не деспотично. Мало говорила и еще меньше участвовала в бабьих сплетнях, чему не учить было золовку Дарьюшку. Пантелей называл Варварушку «капитаншей баржи», подразумевая под баржою особняк.
Племянники Феофана и Пантелея Федор и Григорий детство и юность провели в доме на набережной, где и умерла их мать, молдаванка Клавдия. Федор долгое время жил в семье Феофана, потом уехал в Москву, редко давал о себе знать дяде, жену которого, Феклу Макаровну, невзлюбил. Да и Фекла Макаровна не очень-то пеклась о Петухе – так звали Федора в детстве за его песни. Федор рос нервным и впечатлительным мальчиком. То он бурно выражал свои восторги, то вдруг предавался размышлениям, допоздна засиживаясь на Енисее. Раза два он тонул, но от дальних заплывов так и не отказался. Федора от всей души любил Пантелей, поощряя его дерзкие вылазки, Григория – дядя Фан-Фаныч, который в племяннике души не чаял, пророча ему карьеру инженера путей сообщения. И действительно, Григорий стал инженером, только не путейцем, а геологом.
Не в пример Федору Григорий был с детства крепким и малоподвижным пареньком. Он любил часами возиться в глине и песке. Когда подрос, стал увлекаться охотой, лазил по горам и скалам что твоя рысь. Стихов он, как брат Федор, не сочинял, зато хорошо знал книги о минералах. Засыпал с романами Жюля Верна, Купера, Майн-Рида, Джека Лондона… И так пристрастился к таежным приключениям, что однажды чуть не погиб, заблудившись в тайге близ прииска Знаменитого. После Томского университета он работал на Алтае и вот уже третий год в родном городе возглавляет отдел металлов геологоуправления. Никто, пожалуй, из местных геологов не обладал такой огромной выносливостью, напористостью в поисках и терпением, как Григорий Муравьев. Познания его были обширны. Геологи звали его «хитромудрым», хотя он просто был умным, даже талантливым парнем, за что и уважала его Варвара Феофановна.
Впрочем, о взаимоотношениях Григория и Варвары можно было бы много кое-чего сказать, если бы сердце девушки было открыто нараспашку. Нечто было недосказанное, потаенное, запрятанное глубоко внутрь души Варвары в ее отношении к Григорию. Стоило перехватить ее многоговорящий взгляд, обращенный на Григория, вникнуть в ее особенное участие, то можно было бы догадаться, что она просто влюблена в Григория. Откровенно говоря, Варвара Феофановна менее всего желала бы видеть Григория женатым, а Катюшу Нелидову – на положении его жены. Она старалась быть единственным другом Григория, единственным его советчиком во всех житейских и производственных вопросах. Недаром же, страдая большой потерей зрения (результат кропотливой работы иглой по полотну), она ночами просиживала над толстыми геологическими томами, чтобы в свое время подсказать Григорию нужное слово. Иногда она навещала Григория в поисковых экспедициях, не брезгала никакой черной работой – рыла землю, помогала бурильщикам, лазила по горам, стряпала и стирала, подбадривая Григория в минуты уныния и усталости. И Григорий всегда рад был ее присутствию в экспедиции. Все свои трудовые отпуска Варвара приурочивала к «трудным моментикам» Гриши, спеша ему на выручку, где бы он ни был – на Алтае ли, в тайге ли, на Крайнем ли Севере. И надо сказать правду: единственным человеком, перед кем Григорий держал душу открытой, была Варвара. Ни один из его творческих замыслов не обошелся без ее участия. Они вместе думали, вместе рассуждали, вместе радовались успехам и вместе молча переживали горечи неудач. Дружба их была до того светлой и открытой во всем, что ни у кого, не только за пределами особняка на Енисее, но и в границах особняка не повернулся бы язык очернить ее грязью низких сплетен. То была любовь, может быть, довольно странная, но такая, на которую трудно поднять руку.
Знал ли дядя Фан-Фаныч, видела ли тетка Фекла Макаровна тайные пружины единения Варвары Феофановны с племянником? Знали, видели и смирились.
В обществе инженера Григория Варварушке дышалось легко и свободно; она жила его творческой мыслью, его дерзаниями, исканиями, его неукротимой энергией, которая возбуждала в ней физическое желание быть вечно молодой и немножечко беспечной, какими бывают лишь девчонки. Не только жизнь, но и, казалось, сама природа обретала для нее совершенно новые оттенки, каких она не замечала до дружбы с Григорием. Бывая в горах, в скалах, на той же городской, тысячу раз исхоженной Лысой горе, она видела не просто гору или камень, а заключенные в них минералы и металлы, освободить которые необходимо для жизни людей. Та же Лысая гора с ее отвесными краснокирпичными ярами чудилась ей в сверкающем на солнце алюминии, в самолетах, в легких домашних предметах, без чего нельзя прожить современному человеку. Эта мысль подстегивала ее, бодрила, как бодрит усталого человека кружка доброго вина. И все это шло от Григория! Как же ей не полюбить этого человека, который ее спокойной жизни сообщил нечто новое, неизведанное и трудное? Она была такая же ищущая, как и он, но более умудренная жизнью. От Григория можно было ожидать безрассудный поступок, свойственный его годам; она же перешагнула границу безрассудства и жила не столь порывами чувств и оскорбленного самолюбия, виновника многих человеческих бед, сколь глубоким раздумьем, опытом жизни.
Но и сама Варварушка не совсем обычно вошла в тихую гавань семьи Фан-Фаныча. Сам Феофан спас ее как утопающую, и не подозревая, что спасает самоубийцу. В ту пору на Енисее ходил еще плашкоут, и побережье было почти пустынно. Как-то поздним августовским вечером, возвращаясь с правого берега, Фан-Фаныч обратил внимание на белокурую хрупкую девушку в светлом платье, для которой, как говорится, и солнце не светило. Глаза ее подпухли от слез, и вся она была такая жалкая, потерянная и одинокая среди людей, что даже у Фан-Фаныча сжалось сердце. А он был не из породы чувствительных! И вдруг, на самой середине Енисея, белокурая девушка оказалась за бортом плашкоута. Одни говорили, что она оступилась, другие – упала в обморок, вот так, как стояла, так назад себя и шлепнулась в воду. Паромщик кричал, ругаясь напропалую на пассажиров за то, что они сами, черти, вылазят из границ плашкоута. Возле плашкоута была лодка. Покуда ее отвязывали, приноравливались, навешивали в гнезда весла, Феофан, будучи человеком не из робкого десятка, долго не раздумывая, сбросил с себя сапоги, штаны и рубаху да и прыгнул в воду. Все это произошло в какие-то считаные секунды. Девушка вынырнула невдалеке, что-то дико крикнула страшным голосом и опять скрылась под водой. Фан-Фаныч моментально подплыл к тому месту, где еще не успели разойтись круги, и нырнул вглубь. В воде он схватил ее за косу и так подтянул к лодке. Она была без сознания. На берегу к ней подоспела фельдшерица спасательной станции; утопленницу откачали, но вместо радости и благодарности с недоумением услышали от нее проклятия. «Будьте все прокляты! – кричала она. – Уйдите, уйдите! Проклятые!..» Фан-Фаныч сообразил, что это явление не из нормальных и что не следует подобному явлению давать широкую огласку. Он властно отстранил любопытных, схватил несчастную на руки и затащил к себе на квартиру в особняк, что стоял почти рядом. Неделю Варварушка находилась под покровительством сердобольной Дарьюшки и строгой Феклы Макаровны, молчаливая, плачущая, безразличная ко всему и такая жалкая! Как ее ни расспрашивали, кто она и что с ней случилось, ничего узнать не могли, кроме того, что в городе на Енисее она проездом, что родных у нее будто бы нет и что она впервые в Сибири, а жила будто бы где-то в Ростове-на-Дону, и вот приехала в Сибирь искать счастья, да не нашла его. То был тысяча девятьсот тридцать первый год! В городе нелегко было прожить: не хватало хлеба, в магазинах не было ни молока, ни мяса, и даже спички выдавались по талончикам. Нищие кочевали от дома к дому. Среди нищих были и те, кто совсем недавно «засыпался хлебом с головой и мясо жрал от пуза».
Братья Муравьевы в ту пору жили лучше всех. Феофан – возле пивзавода, Пантелей получал «усиленный паек» горного рабочего. В доме был достаток.
Варварушка мало-помалу обжилась. Сперва она работала при клубе железнодорожников, что-то там украшала, рисовала, писала плакаты, организовывала кружки самодеятельности, недурно пела, учила других ставить голос и до того вошла в кипучую жизнь самодеятельности, что самой стыдно было вспоминать о покушении на самоубийство. Она благодарна была Фан-Фанычу не столь за спасение, сколь за укрытие печального факта. Все знали, что она просто оступилась, но никто – что она сама кинулась в воду. Фан-Фаныч определил ее в гражданских правах: выдал ее за несовершеннолетнюю, безродную и удочерил. Никто никогда в доме Муравьевых не ворошил прошлого Вареньки, будто его и не было. Из чувства ли благодарности или из каких-либо других соображений, исключая любовь, Варя согласилась быть приемной дочерью Феофана и Феклы Макаровны, хотя в семье держалась особняком: жила замкнуто, «себе на уме». И как будто тяготилась привязавшимися к ней всей душой Фан-Фанычсм и Феклой Макаровной. Те же и думать не хотели, чтобы отпустить ее куда-нибудь. И вот совсем недавно, за три дня до возвращения Григория из экспедиции, Варварушка вдруг покинула дом Муравьевых: уехала с Сибирской гвардейской дивизией на фронт. Что было тому причиной – трудно сказать. Может, когда-нибудь и разъяснится внезапный уход Варварушки из дома Муравьевых, – кто знает!..
2
В сгустившейся снежной мгле машина яростно била снопами света, освещая черные глыбы домов движущимися крылатыми тенями от убегающих вспять запорошенных тополей. Световые рекламы кино, театра, почтамта, магазинов, кафе, аптеки, забиваемые снегом, померкли.
Незнакомка все смотрела вперед на прямую улицу, чем-то напоминающую ленинградские, и щемящее чувство грусти и тоски, нарастающее в ней, подобно снежному кому, все больнее сжимало сердце. Куда она едет? Что она знает о Муравьеве? Не свяжет ли он ее своим участием и помощью? Не лучше ли было бы ей остаться в той же Сызрани, нежели ехать за тридевять земель в Сибирь, в поисках неведомого и сомнительного? В тайниках души она надеялась хоть что-нибудь узнать о семье.
– Значит, из Ленинграда? – проговорил шофер, лобастый молодой парень, искоса взглядывая на соседку. – Хлебнули горького ленинградцы, нечего сказать. Я знаю только по газетам, а в натуре-то, верно, совсем другое. Вот, например, что писали о Харькове? «Отступили на заранее подготовленные позиции». А как это происходило в натуре? Будь здоров! Месили нас немцы три дня и три ночи, аж небу жарко было. Поливали таким кипятком из артиллерии, что в земле нельзя было спрятаться. Потом двинулись эсэсовцы – вот так, во весь рост: «психическая атака», чтоб окончательно повлиять на нервы. Там меня и гвоздануло, под Харьковом. Полгода отвалялся в госпитале после контузии и не мог очухаться от «психической»!..
Когда машина остановилась в третий раз, высаживая кого-то из геологов и рабочих, шофер поинтересовался:
– А вас где высадить?
Соседка не нашлась что ответить. А что, если Муравьев забыл о ней? Вывез в город, да и оставил с шофером…
– Миша, давай ко мне на набережную, к понтонному! – крикнул Григорий, перегнувшись через кузов к окошечку шофера.
Машина свернула в переулок и, тяжело пробиваясь по сугробам, медленно шла в гору, буксуя, затем спустилась к набережной, огибая причудливое пирамидальное здание краевого музея, смешавшего в своей архитектуре и зной египетского неба, и лютую стужу севера.
Григорий легко выпрыгнул из кузова, принял от Редькина тяжелый чемодан и свой рюкзак, нагруженный образцами аскизских гематитов, позвал за собою Дружка, который спрыгнул к нему черным комом и сразу же бросился к ограде почернелого одноэтажного дома с закрытыми ставнями.
– Ну, мы приехали! – сказал Григорий, помогая незнакомке выбраться из кабины.
Машина дала полный газ и, взрыхлив толстый слой наносного снега, скрылась за поворотом улицы. Незнакомка, глядя на широкую полосу, за которой мерцали далекие огни, уходящие куда-то за горизонт, догадалась, что они у самой реки.
– Это Енисей, да?
– Он самый. Красавец и гордость Сибири.
– А что там за огни?
– Они появились там недавно, – ответил Григорий, задумчиво всматриваясь в даль. – Сибирь тем и хороша, знаете, что в ней разгораются вот такие огни. Она вся в движении, в строительстве, в разведке. И чем гуще огни, тем веселее жить. Представляете, сколько будет здесь огней, когда Енисей перекроют плотиной? Сейчас здесь темно, есть и мрачные закоулки, а тогда будет наводнение света…
Григорий постучал в ставень черного домика. Дружок тем временем успел перепрыгнуть через покосившийся заплот в ограду и там залаял. Вскоре вышел Феофан в полушубке внакидку, открыл воротца на цепную щель, присмотрелся:
– Ты, Гриша? И вроде не один?
– Не один. У нас остановится девушка из Ленинграда, – и Григорий пропустил вперед себя в калитку ленинградку.
Фан-Фаныч, на голову выше племянника и чуть ли не в два раза шире в плечах, медлительный в движениях мысли, не сразу понял значение слов Григория.
– Где остановится? У тебя или у нас? Переночевать или как? Места, конечно, хватит. Мы тут с Феклой Макаровной вдвоем коротаем время. Варвара еще позавчера откомандировалась на фронт.
– На фронт? С какой стати на фронт? – удивился Григорий, подходя к крыльцу.
– Да вот, так вышло. Уехала добровольно с сибирской дивизией. И что ей взбрело в голову – ума не приложу, – пояснил дядя, замыкая шествие. В темных сенях, где было три двери: одна на половину Пантелея, другая, прямо, как войдешь в сени, – в комнаты Фан-Фаныча и третья слева – в комнаты Григория, – Феофан сообщил: – Твоя любимица, Гриша, околела еще на той неделе. Ворковала, ворковала, а тут в оттепель выпустил я их облетаться, вроде кто клюнул ее из рогатки, прилетела опосля всех с разбитой головой, поворковала у меня на руках и издохла. Слышь, воркуют – тебя почуяли.
Из темных уголков сеней то здесь, то там раздавалось голубиное воркованье и шорох. Григорий пожалел издохшую голубку, сказал дяде, чтобы он не беспокоился и ложился спать, распахнул дверь в свою комнату, натыкаясь в темноте на стулья, прошел к столу, зажег стеариновые свечи, сбросил с плеч рюкзак и, широко повернувшись, впервые встретился с глазами ленинградки.
Они стояли почти рядом. Ее большие синие глаза под тенью крупных заиндевелых ресниц смотрели в близорукие глаза Григория грустно и устало. Красивый рот с чуть приподнятой верхней губой, как у капризного ребенка, улыбался той вымученной улыбкой, которая возникает по принуждению. Лицо ее было совсем юное, со впалыми щеками. Седые от инея пряди золотистых волос, выбившиеся из-под суконной шали, падали развившимися кольцами на высокий, с темными, слегка надломленными бровями лоб. И только пятно на обмороженной щеке, рваная и грязная шинель, словно с плеча кочегара, разбитые кирзовые сапоги говорили о пройденных дорогах и обо всем ею пережитом. Григорий хотел отвести взгляд, сразу, моментально, но все еще удивленно смотрел на нее.
– Ну вот… Давайте устраиваться будем, – пробормотал он, беспричинно передвигая стул.
Неосознанное чувство досады пошевелилось где-то у него в сердце, и он, покашливая, достал еще три свечи, зажег их, сообщив, что город эти дни экономит электроэнергию, прилепил свечи на гематитовый камень и прошел в следующую комнатушку, которая служила ему спальней. Движения его были вялые, думающие, прислушивающиеся. «Черт знает что получается, – хотел бы он сказать в этот момент. – Тебе бы, голубушка, с таким лицом не надо прятаться в угол, в тени. И не надо бы притворяться казанской сиротой».
Незнакомка все еще стояла посреди комнатки. Пронизывающий взгляд Григория и то, что он почему-то вдруг нахмурился и, сердито покашливая, медленно пошел в другую комнатушку, обеспокоило ее. Первым ее желанием было повернуться и уйти. Уйти куда-нибудь, даже навстречу бурану. Но опять припомнился ей вот такой же взыскивающий взгляд лейтенанта флота, когда он посмотрел на нее снизу вверх, там еще, в руинах, и так больно резанул ее душу. И негнущимися, окостенелыми пальцами она стала расстегивать неподдающийся грубый солдатский крючок.
– Что же вы? Раздевайтесь, раздевайтесь, – подбодрил Григорий. – Тут у нас тепло. А в той комнате даже жарко будет, вот подтопим плиту. Вы там и обоснуетесь. А я буду здесь. Тут у меня и лаборатория, и библиотека, и диван на троих. Простора для меня достаточно. Я человек горный, привычный.
– Спасибо, Григорий Митрофанович, – поблагодарила она и еще больше застеснялась.
– Ну, ну. Похоже, что вы меня уже знаете. А вас как звать?
– Юлия… Чадаева.
– Юлия? Вот и прекрасно. Будьте как дома.
Он еще хотел сказать ей о тяжелых днях военного времени, о великом испытании русских людей на жизнеспособность и о том, что все течет, все изменяется и настанут черные денечки и для немцев, развязавших войну, когда они пожнут плоды своего злодейства. Но он ничего не сказал. Мысли и картины возникали в уме, а слов не было. Он еще не знал ее. Что она за человек? Может быть, под ее рваной шинелью бьется такое же рваное сердце?
Эта его обвиняющая, безосновательная мысль, по-видимому, передалась Юлии. Лицо ее передернулось, брови насупились, и она, вздохнув, бросила шинель в угол.
Между тем Фан-Фаныч, наконец-то сообразив, что с Григорием заявилась некая ленинградка, которую он провел к себе, чего никогда не случалось, весьма заинтересовался таким фактом. У Гришки девушка из Ленинграда! Вот так фунт изюму! Что сказала бы Варварушка, если бы была дома? Надо же поглядеть, что за гостья у Гришки-молчуна.
Фан-Фаныч, пыхтя в темноте, отдуваясь, натянул на себя брюки, рубашку, туго перетянул ремнем свой толстый живот, разбудил сухопарую, костлявую супругу, Феклу Макаровну, сказав ей, что вернулся Гришка из разведки и надо приготовить хороший ужин, так как у него находится гостья из Ленинграда, – зажег настольную лампу, а тогда уже умылся холодной водой, посмотрелся возле умывальника в зеркало и направился к Григорию.
И как же он был удивлен, этот пожилой добродушный толстяк, когда судьба свела его лицом к лицу с поразительной копией той самой Вареньки, которую он в памятный день августа 1931 года принес на своих руках вот в эту же самую комнату! И она вот так же сидела на жестком стуле, потерянная и одинокая, держа руки ладонями на коленях, обтянутых мокрым платьем, щупленькая, худенькая, и плакала, и такой же был у нее странный взгляд, глядевший внутрь, и такие же печальные, усталые глаза с синевою в подглазье. Не случайно же они, Фан-Фаныч и Фекла Макаровна, удочеряя Вареньку, выдали ее за пятнадцатилетнюю…
Фан-Фаныч до того растерялся и оторопел, что забыл, зачем пришел. Смотрел и смотрел на девушку, на ее завитушки светлых волос, какие были тогда у Вареньки. Такие же вот впалые щеки, тонкая шея, такая же робость и потерянность в чужом доме…
– Из Ленинграда, значит, приехали? – ответил на недоумевающий взгляд гостьи Фан-Фаныч. – Дорога неблизкая, да еще проклятущая война! Пораскидала людей по белому свету заваруха-метелица. И все еще метет, крутится, язви ее. Как вас звать-величать? Юлия Чадаева? А! Семью имеете? Эге ж. А кто ваши родители? Папаша профессор, хирург? Эвон как!.. Эге ж. Значит, Юлия?
Перехватив взгляд Григория, дядя сказал:
– Замечаешь, какая схожесть обличностью с Варенькой? Сейчас-то Варвара малость переменилась, а вот когда я ее первый раз увидел, в точности такая была. Как две капли воды.
Григорий невольно поежился и с нарастающим удивлением посмотрел в лицо Юлии. Оно снова показалось ему совсем юным, почти детским, но совсем не таким, как у Варвары Феофановны. Ничего общего. У Варвары Феофановны строже лицо, резче черты лица, чуть крупнее нос, хотя так же вздернутый, не такие обидчивые толстые губы, да и сам рост совсем не такой. А Юлия, как девочка, маленькая и собранная. Ее певучий, мягкий голос приятно трогал слух. Пушистая гарусная кофта, похожая на шубу, плотно обжимала все ее хрупкое, худенькое тело. Таким же гарусным шарфом была замотана шея. Целая копна мелко вьющихся волос, сплетенных сзади в две толстых косы, делала ее похожей на девочку-подростка. Что же общего с капризно-гордой и давно оформившейся красотой Варвары Феофановны? И вот эти маленькие красные руки, и тонкая девичья шея, на которой Юлия нарочито или инстинктивно прятала большое, словно выжженное пятно от осколочного ранения, чуть пониже уха, но пятно это все-таки виднелось, – все это повергло Григория в какое-то странное волнующее смятение. Он молча притащил дров, два ведра воды, большой медный таз и, растопив плиту, одним ухом прислушиваясь к разговору дяди Фан-Фаныча с Юлией, поставил воду греться.
– И как, трудно было в Ленинграде? – спрашивал Феофаныч.
– Да. – Юлия отвечала вяло, неохотно; ей чем-то не понравился матерый мужик. Не нравилось его пунцовое полнокровное лицо с висячим толстым носом.
– Трудно было в блокаде?
– Да.
– Голодухи хватил народ?
– Жители одно время получали по семьдесят пять граммов комбихлеба. И больше ничего.
– Что за «комбихлеб»? – похлопал глазами Фан-Фаныч, двигаясь на стуле. – Ах вон какой хлебушко! Напополам с охвостьями и мякиной. Едали и мы такой в отдельные периоды гражданки, при Колчаке, да и опосля. Чего не едал и не видал русский народ? Кряхтит, да везет. Никакой француз не выдержал бы. Ежли навьючить бы на француза всю нашу гражданскую, индустриализацию, коллективизацию, ликвидацию, пролетаризацию, издох бы в тот час. Англичанин обалдел бы и живым в землю залез по самые уши. А русский живет, хлеб-мякину жует, да еще и песни поет. В таком положении понятие требуется глубокое. Я сколько лет при пивзаводе, – всяких рабочих насмотрелся. Сибиряк – как пенек, кувалдой не убьешь. Россиянин – послабже, поджилки не те. Ну, а о прочих национальностях не говорю: потому – неприятности поимел из-за них через партийную критику. А какая у вас специальность?
– У меня? Еще никакой.
– Ишь ты! Оно, конешно, какие ваши годы? Лет восемнадцать? Двадцать три?! Училась? А! Где же? В академии художеств? Это в каком понятии? Спрашиваю: какую профессию получили бы после академии? Художницы? А! Вот оно что. Вся линия как у нашей Варвары.
Фан-Фаныч посидел еще минут пять, потолковал о том, о сем, что-то прикидывал себе на уме и, уходя, сказал Григорию, что Фекла Макаровна приготовит ужин. Подождал немного: не пригласит ли Гришка посидеть со своей гостьей за чаем, но Григорий не пригласил, и Фан-Фаныч ушел, немного разгневанный, убежденный, что племяш наверняка привез жену, но пока еще не оформил в загсе, скрывает. «Если Варварушка была под этот час дома, туго пришлось бы Гришке!»
3
Юлия грелась у печи. Ей нравилась и эта маленькая комнатушка, и колеблющийся свет стеариновых свечей, и чернильный прибор на гематитовой глыбе, и множество фотопортретов на стенах, видов тайги, каких-то странных вышивок по полотну, и шаги Григория, мягкие, бесшумные, и то, как он хмурит свой высокий лоб, а главное, она не чувствовала того давящего стеснения, как это бывает в чужом доме.
Непривычная, почти забытая теплота жилой уютной комнаты напомнила Юлии жизнь с семьею на Васильевском острове в доме на Третьей линии, в котором она родилась, провела свое детство, юность… Жгучее чувство взволновало ее. Отец, мать, братья, студия академии, картины, потрясающий «Лувр» Ленинграда – Эрмитаж, мечты и желания – все это было так недавно, кажется, вчера, вот только что, сейчас!.. И всего этого теперь нет. Есть чужая комнатушка, какой-то хитрый, как ей показалось, толстый Феофан, его племянник Григорий, не очень-то разговорчивый.
Думая так, Юлия быстрым взглядом из-под бровей посмотрела на Григория.
– Будем ужинать и отдыхать, – сказал он.
– Спасибо.
– Что спасибо? Подвигайтесь к столу. А там вон вода согрелась, уйдете в ту комнату и будете мыться и все такое. Утро мудренее вечера, знаете ли. Вот вам молоко, чай, сахар, сало, а вот – маралье вяленое мясо. Это я еще осенью в Саянах добыл марала. Мы люди таежные. Чего нет на рынке, то достаем в тайге.
В сонной тишине комнаты слышалось мерное тиканье будильника, перестукивающегося с маятником больших часов на стене. В. печи трещали еловые дрова.
По обстановке комнаты, ее убранству можно было догадаться, что хозяйничала женщина. Дверь слева за бархатными гардинами вела в другую комнату, где было темно. Письменный стол со множеством ящиков и резной решеткой по бортам был завален грудой толстых и тонких книг по геологии. Здесь же стояла настольная лампа, часы, телефон, массивный чернильный прибор, представляющий собою гематитовую глыбу с геологическим молотком и компасом, на которой золотом было написано:
«Открывателю Ардынского месторождения полиметаллических руд, инженеру-геологу Григорию Митрофановичу Муравьеву»
Издали, от изразцовой печи, прочитав эту надпись, Юлия сразу вспомнила, как Григорий сказал на перроне Катюше в меховой дошке: «Вы тогда трещали – Ардын пустое место…» Значит, он, этот молодой геолог, твердо верит в свои силы, если уже не один раз шел против мнения товарищей, чтобы доказать на деле свою правоту!
Над столом в тяжелой раме висела картина, изображающая ночное шествие женщин с факелами. На переднем плане выделялась красивая женщина в белом, устремившаяся вперед, к чему-то невидимому. Мутные пятна на картине говорили о том, что она была недорисована.
Юлия долго смотрела на эту картину. Она сидела в углу у бархатных портьер, поставив ноги на перекладину между ножками дубового стула и положив свои маленькие руки на колени, обтянутые шерстяным платьем.
Григорий видел, как меняется выражение ее лица, принимая оттенки то грусти, то недоумения и тревоги. Никогда еще он не наблюдал такого выразительного лица у девушек, с которыми ему доводилось встречаться. Он вспомнил Катерину. Ее лицо показалось плоским и всегда однообразным, выражающим какую-то одну страсть. Если Катерина сердилась, то оно становилось отталкивающе холодным. И это выражение холодности держалось до тех пор, пока новое чувство не просыпалось в ее душе.
«А у нее такое меняющееся лицо! О чем она думает? Не думает же она о картине?» – Григорий так засмотрелся на Юлию, что не заметил, как папироса в его руке потухла.
Отгоняя какую-то мысль, Юлия глубоко вздохнула, повела головой и, встретившись с его пристальным взглядом, смутилась и покраснела.
Григорий успел перехватить этот ее настороженный взгляд, понял его и ответил успокаивающей улыбкой, как бы говорящей: «Ну, ну! Я понимаю вас, Юлия… Сергеевна. За четыре месяца «вагонов и вокзалов» вам довелось пережить много неприятного! Но в доме Муравьевых для вас нет ничего страшного!»
Всего этого Григорий не сказал. В присутствии Юлии ему было явно не по себе. И куда девалось его невозмутимое спокойствие, которым он всегда гордился? А что будет завтра? Что будет вообще?.. Как могло случиться, что вдруг у него из-под ног выскользнула почва? Странно! Очень странно!.. И неудобно. Неужели так приходит любовь? Так, вдруг, сразу?.. Нет, нет! В любовь он никогда не верил и всегда иронически подсмеивался над влюбленными, а вот теперь смеется над собой!.. Он даже никогда не употреблял это, по его мнению, старомодное слово, как ветхое, изжившее себя. Но какой смысл придаст он этому старомодному слову для себя? Любовь? Романтика? Нет, это не для него! Какая может быть любовь, когда он должен искать в недрах земли железо, золото, марганец, кобальт, молибден?.. Да мало ли у него забот и работы?! Да, да, мало ли работы?! И почему вдруг изменили ему привычная выдержка и хладнокровие? Странно! Очень странно!.. А вдруг ночь мигнет лукавым глазом и он будет прежним, а? Нет, нет!.. Он уже не тот, каким был вчера и все эти тридцать лет!
Вчера еще он жил по своим привычным внутренним законам, которые руководили им и направляли его усилия к определенной цели, избранной в детстве.
А цель эта была геология. Внести свой заметный вклад в геологию! И он отбросил в сторону все, что мешало движению к этой цели. Юноши проводили время на вечеринках, а он корпел над книгами. Часто он уходил в тайгу и читал землю, как следопыт. Да он и был следопытом, охотником за рудами. Еще в студенческие годы он никогда не позволял себе отрываться от этой цели. Хотя бы на два-три дня! Он дорожил каждой минутой. Почему-то, еще будучи в институте, он уже слыл ученым: вместе с дипломной работой защитил кандидатскую диссертацию… И опять-таки он не закупорил себя в четырех стенах лаборатории, как другие. Нет. Он ушел на производство. Он остался прежним пытливым и умным искателем… Его любили товарищи. Им гордились. Его ценили на производстве. Дело, дело и только дело – таков был его девиз. И с кем бы он ни встречался, в какую бы он дружбу ни вступал, он искал сочувствия и поддержки своим планам, всегда таким большим и заманчивым. Так он жил. Более того, даже свою будущую семейную жизнь он не отрывал от этих планов. Григорий считал, что если он обзаведется семьей, то и тогда не изменит себе: жена будет геологом, и они вдвоем будут продолжать то дело, которое он начал еще в институте.
«Надо достигнуть своей цели, – говорил он себе. – Ничто не может помешать мне. В Сибири должны вырасти промышленные гиганты, и по мере моих сил я буду подготавливать почву для этих гигантов».
И он все делал для того, чтобы в Сибири выросли промышленные гиганты. Работал запоем. Бродил в поисках руд по таким таежным тропам, где только изредка отпечатывалась звериная когтистая лапа. Спал где придется и как придется. Кое-кто ему завидовал и называл счастливчиком, которому всегда везет; но он был твердо убежден в том, что никакого везения или невезения нет, а есть только труд и упорство. Труд и упорство!
И вот – встреча. Вчера еще он о ней понятия не имел и счел бы того сумасшедшим, кто сказал бы ему о такой встрече; а вот сейчас у него почему-то покалывает сердце и жжет, жжет!.. Странно! Очень странно. Но приятно. Хорошо. Радостно. И ново. Ново! Этого он еще не переживал. И даже растерялся в своей комнате. Она сидит у плиты. Он украдкой смотрит на ее тонкие пальцы с розовеющими ногтями. Видит ее раскрасневшуюся щеку с пятном от мороза, мочку уха под пушистыми прядями волос, и чувство смущения и еще чего-то неясного захлестывает его волной. И ему так хорошо, так радостно. Очень хорошо! И даже комната стала какой-то особенной! Пусть бьется буря в ставни! Пусть пляшут вихри! А ему чудесно, чудесно в эту ночь…
4
Он стоял, прислонившись спиной к углу резного шкафа, заложив руку за борт полурасстегнутого мехового жилета и скрестив ноги. Левая нога, на которую он переложил всю тяжесть тела, затекла. Но он не менял неудобного положения.
Он хотел говорить с нею. Слушать ее голос. Но Григорий знал: все, что он скажет ей в эту минуту, зазвучит фальшиво. А заговорить о том, как ему чудесно в эту минуту, этого он не мог.
Перехватив взгляд Юлии, обращенный к картине, Григорий, стараясь сообщить своему голосу равнодушный тон, спросил:
– Ну и как вы ее находите?
И удивился. Голос был не таким, к которому он привык. Что-то напряженное и глуховатое зазвучало в нем.
– Я ее не совсем понимаю, – ответила Юлия. – Я ее не совсем понимаю, – повторила она, легким, упругим шагом прошла по комнате и остановилась за спиной Григория. Он даже чувствовал ее дыхание. – А вы ее понимаете?
– Ничего… Ничего не понимаю, – признался он.
– Вот это мне нравится! – Юлия рассмеялась. – Для чего же тогда держать картину, если не понимать ее? Картина, даже и такая, что-то говорит. В ней много недорисованного, но и много мыслей. Мне кажется, художник писал ее с большим увлечением. Писал, бросал, сердился, проклинал, потом снова брался за кисть, но уже с другими мыслями. Менял план, идею и так все запутал, что потом отступил. Вот под этими черными пятнами было что-то нарисовано, а потом замазано. Видно, что у художника нет школы. Ни своей и ничьей. Тут что-то и от француза Латура, и от нашего Левитана. Художник сумел вызвать призраки из тьмы, оживил их факелом женщины в белом, а со всей картиной не справился. Я почему-то думаю, что эту картину художник писал много лет и так и не понял своей ошибки.
И таким же упругим шагом Юлия вернулась к стулу.
– Да, да, точно! Вы правильно разгадали картину, – сказал Григорий. Он хотел было закурить, но передумал.
– Ну, может, и не совсем правильно, – уклонилась Юлия.
– Правильно, правильно, – возразил Григорий, все еще испытывая чувство близости Юлии, хотя теперь она и сидела уже на стуле.
Григорий усмехнулся и показал на фотопортрет на стене.
– Вот художник картины.
С портрета на Юлию смотрела молодая женщина в нарядной белой блузе. Юлия сразу догадалась, что толстяк Фан-Фаныч говорил именно об этой женщине, сравнивая Юлию с ней. Это и есть та самая Варвара? Конечно, она. Но неужели Юлия и в самом деле похожа на нее?
Григорий тоже задержал взгляд на портрете. Ничего подобного, Варвара совсем не такая, как ее запечатлел фотограф. Отдаленное сходство. Ничего общего с той подвижной, энергичной и деятельной Варварой Феофановной, которую знает весь город. Глаза ее не такие серые, а голубые, с искринкой, ласковые и умные. На портрете нет ее рук, умелых, проворных и маленьких, как вот у Юлии. Все кипело в ее руках, когда она бралась за дело. На портрете нет ее улыбки, всегда задушевной и милой, согревающей душу в трудную минуту.
– Она – художница?
– Для себя. В пределах границ, установленных ей богом и природою, – усмехнулся Григорий. – Все так и случилось, как вы сказали. Картину она писала долго и каждый день меняла план и замысел. Потом бросила. Называется она: «Факельщицы искания». Черт знает какая символика.