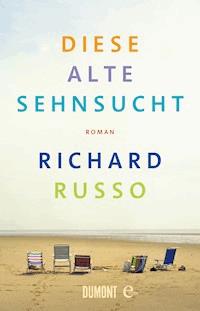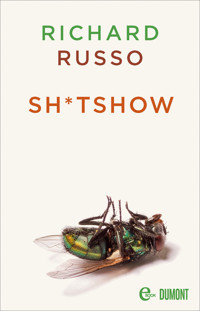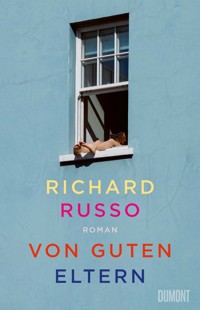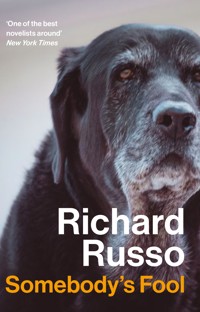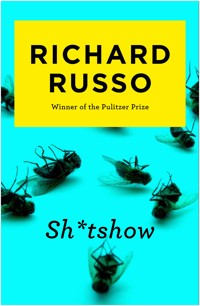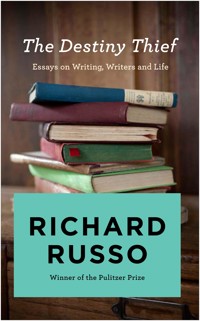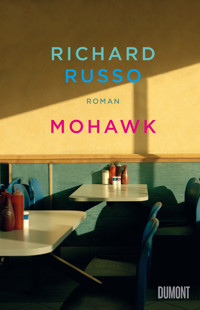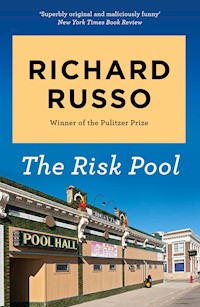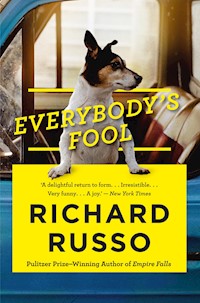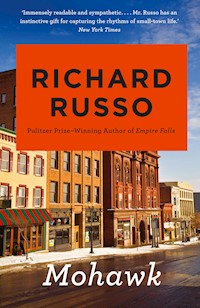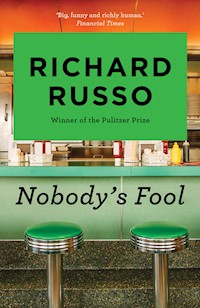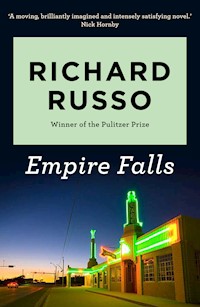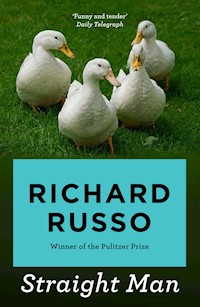Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Фантом Пресс
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Ричард Руссо снова приглашает нас в уютный, ставший уже родным Норт-Бат. «Дураки все» — второй роман трилогии о маленьком американском городке, где все друг друга знают, с трудом терпят, но в беде никогда не бросят. С присущим ему юмором автор рассказывает о жизни, где всё нелепо, случайно и до слез трогательно. О людях, для которых простота — не слабость, а способ выживания. И о городе, где тебя ждут, даже если ты сам не уверен, что хочешь вернуться. Салли за время, минувшее с событий первой книги, внезапно привалила удача, но Салли всегда понимал, что удача и везение — вещи мимолетные, и вот он рассматривает заключение кардиолога, согласно которому ему осталось от силы два года, а скорее, один. Сам этот факт не особо волнует Салли, куда больше его беспокоит, как он сообщит эту новость людям, которые составляют суть его баламутной жизни. Рут, его многолетняя замужняя любовница; верный простак Руб, который по-прежнему задается вопросом, может ли он называться лучшим другом Салли; сын и внук, для которых Салли большую часть жизни был человеком отсутствующим, — как им сказать?.. А ведь еще есть Карл Робак, продолжающий лелеять грандиозные проекты, и начальник полиции Дуглас Реймер, жена которого, убегая с таинственным любовником, в буквальном смысле добралась лишь до последней ступеньки лестницы, да и все прочие обитатели Норт-Барта, у которых проблем что опавших листьев в осеннем лесу… И весь городок вряд ли справится без Салли, а уж когда из не слишком удаленных мест вернулся главный местный злодей… Слушайте продолжение истории о любимом Норт-Бате, где вроде бы ничего не происходит… кроме, конечно, всего, в исполнении харизматичного Григория Переля. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ричард Руссо Дураки все
Говарду Фрэнку Мошеру
Richard Russo
Everybody's Fool
Перевод с английского Юлии Полещук
Everybody’s Fool by Richard Russo
Copyright © 2016 by Richard Russo
All rights reserved
Книга издана с любезного согласия автора при содействии литературного агентства Permissions & Rights Ltd.
© Юлия Полещук, перевод, 2025
© Андрей Бондаренко, оформление, 2025
© “Фантом Пресс”, издание, 2025
Треугольник
Кладбище Хиллдейл в Норт-Бате ровно посередине делилось на две части, Хилл и Дейл, между ними тянулась широкая щебеночная дорога, в пору колониальную по ней ездили на повозках. Первые дюжие обитатели городка не то чтобы вовсе не задумывались о смерти, однако явно не осознавали, сколько человек умрет и сколько земли понадобится на последние пристанища для тех, кого сгубят суровые зимы, стычки с туземцами и недуги. А может, они, наоборот, недооценивали жизнь и собственную плодовитость? Итог, как ни странно, оказался таким же. Клочок земли на окраине, отведенный под кладбище, вскоре заполнили, потом переполнили, потом набили до отказа; в конце концов покойники вырвались за его пределы, хлынули через ныне заасфальтированную двухполосную дорогу на равнинные пустоши и добрались до самого нового шоссе, ведущего к федеральной автомагистрали. Оставалось только гадать, куда они устремятся потом.
Старая часть кладбища, то есть Хилл, хоть в 1970-е и пострадала от графиоза, а в недавние годы от плесени, подточившей корни деревьев, – те слабели и сохли, отчего земля нежданно-негаданно проседала, – всё ж не утратила очарования: ее вековая растительность и поныне дарила посетителям тень и прохладу легкого ветерка. Пологие холмы и извилистые гравийные дорожки дышали уютом и простотой, так что даже казалось, будто те, кто обрел покой под здешними живописными пригорками – а некоторых умерших предали земле еще до Войны за независимость[1], – очутились здесь не вынужденно, а добровольно. Словно они даже не столько скончались, сколько мирно дремлют под покосившимися надгробиями, похожими на видавшие виды удобные шляпы, лихо заломленные набекрень. И кто их осудит, что они, хлопнув по кнопке будильника, предпочли поваляться еще с четверть века, – ведь мир, где им выпало бы проснуться, изобиловал тяготами похлеще, чем тот, который они оставили.
Новая часть кладбища, то есть Дейл, была плоская, как столешница из формайки, и глаз радовала не больше. Ее покрывала сеть мощеных аллей, земля на недавних могилах растрескалась, затвердела, а газоны, особенно те, что примыкали к шоссе, смахивали на одеяла из болезненно-желтых и фекально-бурых лоскутьев. Соседние земли, те самые, где некогда собирались разбить луна-парк “Последнее прибежище”, были грязные, топкие. В последнее время их тлетворные грунтовые воды после затяжных дождей пробивали себе путь под дорогой, размывали почву и утаскивали в низину гробы свежеусопших. После разгула стихии нельзя было поручиться, что на участке кладбища, который вы навещаете, покоится тот же гроб, что и неделей ранее. Многим такое положение дел казалось нелогичным. С подобным обилием вод Дейлу бы зеленеть, однако все тамошние насаждения сохли, чахли, словно из сострадания к его постоянным, пусть и неугомонным, обитателям. Не иначе как воды отравлены, судачили горожане. Сколько они себя помнили, на соседних с кладбищем землях тайком закапывали отходы, поэтому тот участок и продали за бесценок несостоявшимся застройщикам луна-парка. В недавнюю затянувшуюся засуху из-под земли выглянули десятки дырявых железных бочек с нарисованными черепом и костями. Одни бочки были старые, ржавые, бог знает, что из них вытекало; другие, поновее, имели пометку “хром”, и это бросало тень подозрения на соседний город Мохок, где когда-то работало несколько кожевенных фабрик, но подозрения эти встречали категорическими и по большей части вескими возражениями. Любому, кто хочет знать, как на кожевенных фабриках обстоят дела с красителями и канцерогенными химикатами, достаточно посетить городскую свалку и реку, протекающую через город, или онкологическое отделение местной больницы. Но ведь откуда-то же взялись эти бочки с ядовитой жижей? Вероятнее всего, с юга штата. Ясно давно: от Нью-Йорка добра не жди. Дерьмо – как жидкое, так и твердое, как в прямом, так и в переносном смысле – течет вверх, отрицая законы физики, зачастую даже в Катскиллы, а порой и до Адирондака.
Очаровательных и изысканных могильных памятников в Дейле не ставили. Там намеренно ограничивались надгробными плитами, которые не могли повалить малолетние варвары. Известная всему Бату учительница восьмых классов Берил Пиплз, время от времени в язвительных письмах в “Еженедельник Норт-Бата” делившаяся скептическими соображениями о человеческой природе, предупреждала, чем это чревато. Из-за плоских надгробий, писала мисс Берил, и без препятствий в виде деревьев или кустов посетители будут использовать кладбище как гигантскую парковку супермаркета и подъезжать на машине прямо к надобной им могиле. В свое время от предостережения отмахнулись, сочтя его возмутительной, безнравственной клеветой на граждан, но старуха оказалась права. Недели не проходило, чтобы кто-нибудь не позвонил в полицейский участок и не сообщил о следах покрышек на бабушкином надгробии, в том самом месте, где, по мнению навестившего могилку, находилось ее прекрасное лицо. “А вам бы понравилось, если по вашей башке проехали бы на пикапе?” – гневно допытывался звонивший.
Начальник полиции Дуглас Реймер, с опозданием прибывший на кладбище проводить в последний путь судью Бартона Флэтта, неизменно терялся, не зная, как отвечать на подобные претензии: ему казалось, они столь нелепы, что и на вопросы-то не тянут. Неужели от него действительно требуют подтвердить, что проехать по могиле чьего-то предка – поступок, бесспорно, бестактный, даже бесцеремонный – вовсе не то же самое, что проехать по голове живого человека (ведь это уже, разумеется, уголовное преступление)? Допустим, он представит себе и то и другое, – какая от этого польза? Люди словно ожидали от него, что он разберется не только с правонарушителями, но и с мирозданием в целом, да ведь первых так много, что не сосчитать, они такие разные, что не объяснить, а второе настолько загадочно, что не постичь умом. С каких это пор начальник полиции обязан заниматься и тем и другим? Разве загадки природы и поведение человека должны объяснять не психиатры, философы и священники – ведь им за это и платят? Реймер обычно понятия не имел, почему сам поступает именно так, а не иначе, где уж ему судить о мотивах чужих поступков!
В чем бы ни заключались его обязанности, чаще всего – в том числе и сегодня – Реймера воротило от них с души. Патрульным он воображал, что уж в начальниках-то участка займется настоящей полицейской работой или, по крайней мере, на славу послужит обществу, но теперь, оттрубив на этом посту два срока, понимал, что этому не бывать. Разумеется, в Норт-Бате большинство преступлений раскрыть бывало несложно. В больницу поступает женщина, которую явно избили, но она утверждает, будто споткнулась о детскую игрушку и упала. Заявишься к ее мужу, протянешь руку пожать, глядь – а его пятерня, которую он неохотно подает тебе в ответ, больше похожа на безобразный фрукт: багровая, вся распухшая, из-под лопнувшей кожи сочится сукровица. Но даже такие удручающе примитивные расследования покажутся увлекательными по сравнению с тем, чем занимался Реймер в должности начальника полиции. Когда он не присутствовал на похоронах людей, которые ему даже не нравились, и не выступал перед коллективами “сознательных граждан” – а тем явно хотелось не столько услышать его предложения, сколько проверить, долго ль он вытерпит хамство, – Реймер играл роль заурядного клерка, пусть и высокопоставленного, функционера, который заполняет бланки, отчитывается перед городской управой и проверяет бюджет. Порою он день-деньской просиживал в кабинете. Он толстел. Да и жалованье, если честно, оставляло желать лучшего. Нет, конечно, он получал больше, чем когда был патрульным, но не настолько, чтобы эта сумма уняла его вечное раздражение. Пожалуй, он смирился бы с тем, что работенка у него дрянная, если бы выполнял ее хорошо, но, по правде сказать, и копом он был дрянным. Реймер понятия не имел, что бы делал без Кэрис – кстати, о раздражителях – и вечных ее понуканий. Потому что она права, он действительно становится все забывчивее, рассеяннее и задумчивее. С тех пор как Бекка…
Нет, не станет он о ней думать. Не станет. Сосредоточится на здесь и сейчас.
А здесь и сейчас было жарко, словно в Уганде. К тому времени, как он пересек кладбищенскую парковку и преодолел ярдов сто до того места, где над разверстой могилой судьи Флэтта столпился десяток скорбящих, Реймер уже обливался потом. Небывалое пекло для мая. Выходные перед Днем поминовения[2], неофициальным началом лета, как правило, глубоко разочаровывали всех, кто обитал здесь, в предгорьях Адирондаков, – с местными жителями зима и без того обходилась сурово, и лета они ждали с таким нетерпением, что оно просто обязано было скорее настать. Даже если температура в конце мая падала до сорока с небольшим[3] и приходилось расчехлять зимние куртки, они все равно устраивали барбекю на заднем дворе. Они все равно играли в софтбол, даже если неделю хлестали ледяные дожди и поле превратилось в кашу. А если выглядывало солнце, пусть бледное и чахлое, они все равно ехали на водохранилище кататься на водных лыжах. Но в этом году пылкие молитвы горожан все же были услышаны, однако, как обычно бывает (по крайней мере, по опыту Реймера), с насмешливой мстительностью. Последние три дня было градусов девяносто пять[4], и конца этому не видно.
Реймер куда охотнее маялся бы с краю сегодняшней церемонии, но сглупил: встретился взглядом с мэром и не успел отвернуться, а тот жестом поманил его к себе, туда, где стояло высшее руководство, и Реймер скрепя сердце повиновался. Что он только ни делал вчера, лишь бы увильнуть от этих похорон, даже предложил Гасу прислать вместо себя Кэрис (она все чаще искала повод смыться из участка). Я не просто не питал к Бартону Флэтту особой симпатии, пояснил он Гасу, но и числил его одним из многих проклятий своей жизни, однако мэр и слышать не пожелал. Судья был важной персоной, и Гас ожидает, что Реймер непременно придет на похороны и, несмотря на жару, облачится по такому случаю в парадную синюю форму.
И вот Реймер стоит под солнцем, жгучим не по сезону, отдавая дань уважения человеку, который без малого двадцать лет его презирал. Впрочем, не его одного. Судья Флэтт по умолчанию презирал всех до единого и не скрывал, что считает людей лихоимцами (это слово Реймеру пришлось посмотреть в словаре) и невегласами (это тоже). И если к преступникам он питал неприязнь, то юристов и полицейских недолюбливал того больше, поскольку, по его мнению, им следовало быть умнее. Впервые Реймера вызвали в кабинет судьи после того, как он нечаянно выстрелил из своего табельного пистолета; судья – казалось, целую вечность – сверлил Реймера фирменным мрачным взглядом, а потом обратился к Олли Норту, тогдашнему шефу полиции: “Ты знаешь, какого я мнения о мудаках с оружием. Если уж дал оружие одному, то раздай и всем, иначе неспортивно”. За долгие годы Реймеру не раз подворачивалась возможность вырасти в глазах судьи Флэтта, но нынешний начальник полиции умудрился лишь еще больше уронить и без того невысокое судейское мнение о себе.
Разумеется, увильнуть Реймер пытался не только поэтому. Он не бывал на кладбище со дня похорон Бекки и не знал, как поведет себя, когда окажется так близко от нее. Реймер полагал, что уже смирился с утратой, но что, если его снова охватит отчаяние и боль, он не выдержит и расплачется, вспомнив о женщине, которая его одурачила? Что, если истинно скорбящие увидят, как он рыдает? Не сочтут ли они эти терзания, не приличествующие мужчине, насмешкою над своим – более искренним – горем?
– Ты опоздал, – краем губ процедил Гас, когда Реймер встал рядом с ним.
– Сожалею, – ответил Реймер противоположным краем губ, хотя ни капли не сожалел и по такой жаре даже не стал притворяться. – Я уже выходил, когда мне позвонили.
– Неужели нельзя было поручить это кому-то другому?
Реймер заготовил ответ.
– Я думал, что ты захочешь, чтобы этим занялся я.
Мэр ощутимо вздрогнул.
– Элис?
– Все в порядке. Я отвез ее домой.
Элис, чокнутая жена Гаса, видимо, снова забыла принять таблетки. Кэрис связалась по рации с Реймером и сочувственно сообщила о происходящем. У Реймера екнуло сердце.
– Да ну? Неужели опять телефон?
– Именно что, – подтвердила Кэрис.
Мода на сотовые телефоны больше года назад охватила Нью-Йорк и Олбани (и набирала обороты в Шуйлер-Спрингс, городке по соседству с Батом), но в самом Бате пока что не привилась. Гас обзавелся сотовым телефоном и грозился купить такой же Реймеру, поскольку хотел быть с ним на связи более-менее постоянно. Элис, наверное, видела, как люди говорят в эти штуковины, и по-своему истолковала, как этим пользоваться. Решила, что розовый стационарный телефон из ее спальни подойдет как нельзя лучше – почему бы и нет? – отцепила от него провод и сунула кастрированный прибор к себе в сумочку. И если на Элис нападало желание пообщаться, она доставала трубку и, к замешательству окружающих, принималась болтать с таким видом, будто разговаривает по настоящему сотовому телефону.
– Почему бы вам не поручить это мне? – спросила Кэрис. – Вы опоздаете на похороны.
Но Реймеру не улыбалось посылать за бедняжкой кого бы то ни было. Элис и без того часто пугала форма, да и с Беккой они дружили, так что Реймера она узнавала, хотя и его форма, кажется, тоже ее озадачивала.
– Я и сам с радостью съезжу, – ответил Реймер.
Он и правда питал симпатию к Элис. Большинство городских сумасшедших были буйные, Элис же кроткая как агнец. И еще ему казалось, что ей одиноко. Смерть Бекки стала тяжким ударом для Элис.
– Может быть, женщине с женщиной… – вполне резонно указала Кэрис.
– Спасибо, но мне нужна холодная голова в участке, – как обычно, ответил ей Реймер. Тем более что это правда. Голова у Кэрис варила получше, чем у прочих сотрудников, включая его самого.
– Почему? Вы думаете, жена мэра меня испугается? Потому что я черная?
– Нет, Кэрис, – возразил Реймер. – Такое мне даже и на ум не приходило.
Хотя, конечно же, приходило, но Реймер прогнал эту мысль.
– Где она?
– В парке, – ответила Кэрис. – Надеюсь, вы не рассчитываете, что вам удастся кого-то обмануть?
– Кэрис, честное слово, это не потому…
– Вы просто не хотите идти на похороны, – перебила Кэрис, и это ее замечание вновь застало его врасплох.
– Это не займет много времени, – возразил Реймер, хотя надеялся, что все-таки займет.
– А то я могу послать Миллера.
– Миллера, – повторил Реймер. Она серьезно? Миллера? – С него станется ее пристрелить.
– Он стоит у вас за спиной.
Реймер вздохнул, потер лоб.
– Скажите ему, что я прошу прощения за грубость.
– Я пошутила. Его здесь нет.
– Тогда не говорите ему ничего.
– Но он бы мог и оказаться тут, вот к чему я клоню. Именно так вы вечно и вляпываетесь.
– Я вечно вляпываюсь?
– “Я не буду счастлив, пока вы будете счастливы”?
– Я просил вас не упоминать об этом.
– Да это я просто к слову.
– Знаю. У вас всегда просто к слову. А я всего лишь прошу вас больше ничего просто к слову не говорить, ладно?
Элис сидела на скамье напротив памятника павшим воинам. Даже в тени было невыносимо жарко, но Элис словно не замечала.
– Я бы никогда не поступила так жестоко по отношению к подруге, – говорила она воображаемому собеседнику, прижимая к уху розовую телефонную трубку.
– Здравствуйте, миссис Мойнихан, – произнес Реймер и сел рядом.
Некогда Элис, видимо, была хиппи и сейчас, на шестом десятке, снова захипповала. Вставила в длинные седеющие волосы одуванчик, да еще, как заметил Реймер, не надела лифчик. Кэрис права. Опять. Следовало поручить ей разобраться, как она и предлагала. Да и мотивы его она раскусила. Ему действительно не хотелось ехать на похороны.
– Как поживаете?
Элис недоуменно уставилась на него, точно вопрос ее озадачил, но потом улыбнулась, очевидно решив, что перед нею кто-то из знакомых, просто притворяется полицейским. Она нажала на то место на трубке, где, будь это настоящий сотовый телефон, находилась бы кнопка вызова и отбоя, и сунула трубку в сумку.
– Бекка передает привет, – сообщила Элис, и у Реймера по спине пробежал холодок, невзирая на испарину. Элис не впервые упоминала о том, что общается с его покойной женой.
– И вы ей от меня передайте.
Элис вздохнула и отвернулась, словно что-то ее встревожило.
– Так много мужчин.
Реймер не сразу понял, что они уже говорят не о Бекке. Элис смотрела на столбцы имен на памятнике.
– Большинство совсем мальчишки, – заметил Реймер.
– Да, мальчишки. Мой сын здесь.
Это была неправда. Детей у них с Гасом не было. До Гаса Элис была замужем за другим человеком, но, насколько знал Реймер, и в том браке никого не родила.
– Война – ужасная штука.
– Да, – согласился Реймер.
Среди тех, кто погиб во Вьетнаме, были перечислены трое его одноклассников.
– Бекка хотела детей.
– Нет, – возразил Реймер, припомнив единственный разговор с женой на эту тему. Бекка не желала обзаводиться потомством, и Реймер притворялся, будто тоже не хочет. – Вообще-то не хотела.
– В следующий раз я у нее спрошу.
– Давайте я отвезу вас домой?
– А мне пора домой?
– Гас говорит, что пора, – ответил Реймер. Вранье, но именно это Гас и сказал бы, если бы узнал, что Элис вновь сорвалась с поводка.
– Гас меня любит, – произнесла Элис так, будто сообщала малоизвестный любопытный факт.
Они встали, Реймер отвел Элис к своей “джетте” и усадил в салон. До самого дома Элис и Гаса – они жили в старом викторианском особняке, последнем на Верхней Главной, напротив парка Сан-Суси, – Реймер и Элис не проронили ни одного слова.
– Я всё пытаюсь вспомнить, кто вы такой, – на прощанье сказала Элис.
– Где они отыскали этого типа? – шепотом спросил Реймер у Гаса.
Священник, который произносил надгробную речь, и правда смахивал на Элис. Волосы до плеч, на развевающемся прозрачном хитоне вышит затейливый разноцветный узор, означающий… что? Что у священника есть подружка? Что он сам вышивает в свободное время, вместо того чтобы смотреть по телику спорт? Реймер инстинктивно проникся отвращением к священнику, хотя и не сразу сообразил почему. Из-под хитона не выглядывали ни воротничок, ни манжеты рубашки, ни носки, и казалось, будто под этой роскошной ночнушкой священник голый. Реймера посетило непрошеное видение: он представил, как покачиваются темные гениталии этого типа.
– Сорок с лишним лет, – вдохновенно вещал преподобный Хитон, – судья Бартон Флэтт был голосом правосудия и разума в нашем славном городке. Именно так он называл это дорогое нам всем место. “Наш славный городок”.
Реймер подавил стон. Он небезосновательно полагал, что его честь никогда такого не говорил. Флэтт вообще ни к чему не выказывал особой приязни, не считая отвлеченного понятия, которое сам называл “провинциальным правосудием”, – именно это правосудие и отправлял Флэтт, по его же словам. Реймер ни разу не отважился уточнить, чем провинциальное правосудие отличается от прочих его видов, но подозревал, что ответ будет таким: “Тем, что его решения, по всей вероятности, отменят в суде высшей инстанции”. Судья гордился репутацией вольнодумца и выносил вердикты со смиренной миной человека, который слишком хорошо понимает, что прочие законники, скорее всего, со временем придут к противоположному выводу. “Наш славный городок”? – едва ли, подумал Реймер.
Боже, какая жара. Реймер чувствовал, как между лопатками, из подмышек и по груди ползут струйки пота, как вся эта влага пропитывает сбившиеся трусы. На дне разверстой могилы глубиной добрых шесть футов лежала тень, и Реймер поймал себя на том, что отчаянно хочет туда. Там, внизу, наверняка прохладно и пахнет свежестью. Как приятно было бы забраться в могилу, свернуться калачиком и отдохнуть в холодке. Окей, наверняка найдутся вещи и поприятнее, но, положа руку на сердце, сейчас они Реймеру в голову не приходили. После встречи с бедняжкой Элис, после того, как она ни с того ни с сего упомянула Бекку, настроение у Реймера, и без того скверное, испортилось окончательно. С тех пор как год назад не стало его жены – хорошо, он все-таки подумает о ней, – Реймер был сам не свой. По утрам он чаще всего – даже если как следует отдохнул – просыпался словно в тумане и, сонный, уговаривал себя встать. Секса не хотелось совершенно. Вдобавок у него пропал аппетит – в участке Кэрис постоянно напоминала ему, что нужно поесть. Она объясняла отсутствие у него аппетита горем, но Реймер знал, что дело не в этом. Разумеется, некогда он любил Бекку, любил всем сердцем, и то, как она умерла, просто ужасно, но теперь ему, скорее, было любопытно, с кем же она собиралась от него сбежать.
Гас ткнул его локтем и спросил еле слышно:
– Как продвигается речь?
– Почти готова, – заверил Реймер, хотя не написал ни слова.
В понедельник состоится важная церемония, кульминация праздников, среднюю школу переименуют в честь Берил Пиплз – еще одно мероприятие, от которого Реймер тщетно пытался отвертеться. Гас откуда-то узнал, что Реймер учился у мисс Берил, и сразу же припахал его. Реймер пытался объяснить, что учился через пень-колоду и вряд ли может служить примером ее педагогического мастерства. Почему бы не попросить того, кто хотя бы получал у покойной хорошие отметки? Потому что все умные ребята, сообщил ему Гас, свалили из города, как и следовало ожидать. Так что придется выступить Реймеру. Неделю назад он уселся с линованным блокнотом, раз-другой попытался что-нибудь накропать, но скоро сдался. Сегодня попробует снова. И если ничего не выйдет, попросит Кэрис.
– Наш… славный… городок, – с деланым изумлением повторил преподобный Хитон.
Собственным красноречием он довел себя почти до экстаза и раскинул руки, точно желал обнять весь Бат, хотя в эту минуту его единственной аудиторией, не считая горстки поникших скорбящих, были обитатели могил, простиравшихся во все стороны насколько хватало глаз.
– И сейчас, когда мы провожаем в последний путь этого исполина, быть может, нам следует остановиться и поразмыслить над тем, что значат эти слова.
Исполина? Пять футов шесть дюймов, сто сорок фунтов[5] – в лучшем случае. Реймер мог бы запросто выжать этого исполина как штангу и хорошенько, как следует встряхнуть. Если честно, он не раз себе это представлял.
– Значат ли они, что здесь, в округе Шуйлер, нам щедро дарованы красоты природы и преизбыток естественных богатств? Гор, озер, рек и источников?
Источников? О них-то сейчас зачем? В Бате они все пересохли.
– Густые прохладные чащи, где некогда бродили молчаливые проворные ирокезы в гибких и мягких мокасинах?
Ирокезы? У Реймера упало сердце. Если уж в речь над могилой судьи пробрались ирокезы, с чего бы считать неуместным и всё остальное?
– Я верю, что именно это он и имел в виду! – объявил преподобный Хитон. – Но только ли это?
Реймер охотно указал бы, что ничего иного покойный в виду не имел, если бы после этого можно было пойти по домам, но увы.
– Лично я верю, что не только это.
Мыслимое ли дело, чтобы эдакий дуболом представлял настоящую церковь? Он больше похож на тех, кто придумывает собственную религию. А может, он служитель сразу нескольких конфессий и в колледже Шуйлер-Спрингс, который и откомандировал его в Бат, обязанности преподобного заключаются в том, чтобы усыплять разумение студентов, буде те, вопреки ожиданиям, протрезвеют настолько, что у них появится разумение? Принадлежность к педагогической среде объяснила бы и велеречивую чушь, которую он несет, и уверенность, с которой он это делает. Но все-таки интересно, какие ему дали указания. Неужели не сообщили, что судья Флэтт был отъявленный атеист? Что поэтому-то и не было службы в церкви? Неужели этот священник не понимает, что его присутствие здесь – вынужденная уступка положению судьи как публичной персоны и желанию горожан отдать ему последнюю дань уважения? (Окей, сам Реймер такой потребности не ощущал, но допускал, что у других может быть иначе.) Преподобному Хитону явно было невдомек, что ему поручили идиотскую задачу, а потому он полагал своею обязанностью произнести такую же проповедь, какую прочел бы с кафедры по случаю кончины любимого диакона. Или как минимум позаботиться о том, чтобы церемония под обжигающим солнцем длилась бы столько же, сколько и в помещении, где на полную мощность работает кондиционер.
Что сказала бы об этом придурке мисс Берил? “Когда вы пишете, – наставляла она Реймера и его однокашников, – держите в голове риторический треугольник”. И всегда рисовала в верхней части листа с их сочинениями два треугольника, первый представлял собой сочинение ученика, второй, иной формы, призван был улучшить написанное. Как будто геометрия – еще один предмет, от которого Реймера брала тоска, – способна хоть что-нибудь прояснить. Стороны старушкиного треугольника назывались “Тема, Аудитория, Говорящий”, и большая часть вопросов, которые мисс Берил царапала на полях сочинений, касались соотношения этих трех понятий. “О ЧЕМ ты пишешь?” – допытывалась она и проводила волнистую линию к букве Т, обозначавшей тему. Даже если они писали на тему, которую мисс Берил сама же и задала, она все равно настаивала, что тема сочинения недостаточно ясна. Еще она вопрошала: “Как ты думаешь, кто твоя АУДИТОРИЯ?” (Вы сами, так и подмывало ответить Реймера, хотя мисс Берил упорно это отрицала.) “Чем твои читатели занимаются в эту минуту? Почему ты думаешь, что их заинтересует эта тема?” (А если не заинтересует, зачем вы вообще ее задали? Неужели вы думаете, что мне она интересна?)
Но больше всего Реймера сбивали с толку непонятные вопросы про говорящего. Эта часть его треугольника всегда оказывалась такой короткой, а две другие такими длинными, что получившаяся геометрическая фигура смахивала на стапель. На каждом сочинении Реймера мисс Берил писала: “Кто ты?” – будто бы наверху первой страницы не было напечатано “Дуглас Реймер”. Если спросить у нее, что имелось в виду, ответит тоже непонятное. В каждом тексте, утверждала мисс Берил, неизменно присутствует образ автора. Не ты, действительный автор, не тот человек, которого ты видишь, когда смотришь на себя в зеркало, а тот “ты”, которым ты становишься, когда берешь в руки перо с намерением что-либо сообщить. “Кто этот Дуглас Реймер?” – провокационный вопрос, который любила задавать мисс Берил. (Так и тянуло ответить: никто. Реймер охотно стал бы никем, лишь бы только она от него отцепилась.)
Но, поскольку старуху это явно заботило, Реймер старался, как мог, понять ее треугольник, хотя тот оставался таким же загадочным, как Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Но Троица хотя бы считается глубокой тайной, над которой положено размышлять, сознавая при этом, что она превосходит человеческое разумение, – к великому облегчению Реймера, поскольку его разумение она, бесспорно, превосходила. Тогда как риторический треугольник мисс Берил ему понимать полагалось.
И сегодня, тридцать лет спустя, Реймер, как ни странно, наконец догадался, что мисс Берил имела в виду: в треугольнике преподобного Хитона не хватало целых двух сторон. Он явно не задумывался ни о слушателях, ни о том, как они страдают на жестокой жаре. Да и тема его, похоже, не волновала. О судье Флэтте этот тип явно не имел ни малейшего представления, тот служил ему лишь поводом высказаться. Хуже того: дабы заполнить образовавшуюся пустоту, преподобный Хитон мастерски выделил ту сторону треугольника, которая обозначала говорящего и прежде сбивала Реймера с толку. Если спросить его: “Кто ты?” – священник ответил бы, что он личность важная и вдобавок неординарная. Вряд ли мисс Берил с ним согласилась бы, но что толку? Преподобным Хитонам мира сего нет до этого дела. И откуда берется столь изумительная самоуверенность? Реймер питал к этому человеку глубокое отвращение – и все же невольно восхищался его апломбом. Преподобный Хитон не мучил себя сомнениями и явно считал, что справится с этой задачей – да, пожалуй, с любой задачей, – даже если ему еще не успели сказать, в чем она заключается. Ему все было понятно и не терпелось всем об этом сообщить, вдобавок он не сомневался, что сумеет убедить в том всех до единого.
Реймер же, наоборот, всю жизнь сомневался в себе, чужое мнение о нем до такой степени пересиливало его собственное, что он толком не понимал, есть ли у него вообще мнение. В детстве он был особенно беззащитен перед обзывательствами, они не только ранили его в самое сердце, но и оглупляли. Назови его дураком – и он вдруг превратится в дурака. Назови ссыклом – и он превратится в труса. Самое обидное, что с возрастом это не прошло. Замечание судьи Флэтта о мудаках с оружием так задело Реймера именно потому, что судья попал в точку. Потому что – заглянем правде в глаза – в тот день здравый смысл ему действительно изменил. Реймер допустил, чтобы Дональд Салливан, еще один бич его жизни, все же вывел его из терпения. Именно он ехал на машине по тротуару в жилом районе, и Реймер имел все основания арестовать его. А вот расчехлять пистолет не стоило, и уж совершенно не стоило наставлять оружие, пусть даже чтобы припугнуть, на безоружного штатского, как не стоило и снимать пистолет с предохранителя, усугубив тем самым первые две ошибки. Реймер не помнил, как нажал на спусковой крючок, но, вероятно, нажал – и тут же внушил себе, что это был предупредительный выстрел, эта мысль пролетела быстрее пули. Впрочем, ненамного быстрее. В следующее мгновение издали донесся звон разбившегося стекла (Реймер по сей день почитал это не иначе как чудом) в восьмистворчатом оконце туалета, в котором – в доме, находившемся за полтора квартала от Реймера, – сидела на унитазе старушка. Если б она закончила свои дела быстрее или, закончив, проворнее поднялась бы с унитаза, пуля угодила бы ей прямиком в затылок.
Этот инцидент превратил Реймера в пацифиста. Месяц с лишним, пока Олли Норт не заметил некоторую странность в его поведении и не попросил показать пистолет, Реймер его даже не заряжал. Он его и с собой не носил бы, если бы в должностной инструкции не оговаривалось, что для полной экипировки необходим пистолет. Незаряженный пистолет Реймера возмутил Олли еще больше, чем тот случайный выстрел из заряженного, и он объяснил Реймеру: если и есть что опаснее штатского с заряженным пистолетом, так это коп с разряженным. “Тебе жить надоело?” – допытывался Олли. Реймер, тогда совсем молодой патрульный, знал, что правильный ответ “нет”, но, вместо того чтобы именно так и сказать, он молча пожал плечами, оставив вопрос без ответа.
Почему он так уязвим перед чужим мнением, гадал Реймер, тогда как другим всё сходит с рук? Окей, может быть, покойному судье и не понравился бы преподобный Хитон. Если б судья при жизни услышал эту надгробную речь, скорее всего, упек бы Хитона в тюрьму за очернение репутации. Но Реймеру и в судье, и в преподобном виделось больше общего, чем различий: ни тот ни другой не боялись ошибиться и не склонны были проверять свои суждения. (“Проверяйте, проверяйте, проверяйте, – талдычила им мисс Берил. – Писать – значит рассуждать, а хорошие, честные рассуждения нуждаются в проверке”.)
А вот судейство в проверке, видимо, не нуждается. К Флэтту Реймера вызывали частенько, и, по его опыту, судья ни разу, никогда решений своих не менял. В последний раз Реймер давал показания против некоего Джорджа Спаноса, тот жил на окраине нашего славного городка с женою, детьми и дюжиной шелудивых псов, лупцевал он их как сумасшедший, и в конце концов собаки тоже лишились ума. Реймера, который приехал его арестовать, укусили трижды: два раза собаки и один раз – одичавший мальчишка. (У жены Спаноса, по счастью, зубов не имелось.) Укус мальчишки воспалился, потребовались антибиотики, из-за собачьего Реймеру вкололи прививку от столбняка, но, когда Реймер, хромая, поднялся на свидетельскую трибуну, судья не выразил ни малейшего сочувствия, и это при том, что, в отличие от прошлого случая, правда, вне всяких сомнений, была целиком на стороне Реймера. Под заученно-неестественным взглядом судьи Реймеру вдруг показалось, что они с обвиняемым поменялись местами. И это у него, начальника полиции, требуют объяснений. Еще можно понять, сказал судья, что вас погрызли собаки. Но как, ради всего святого, вы умудрились допустить, чтобы вас покусал ребенок? Спатос все слушания просидел рядом со своим адвокатом и так убедительно изображал оскорбленную невинность, что даже Реймер почти ему поверил. Тогда как он сам – а ему и зеркала не требовалось, чтобы узнать, что сейчас выражает его лицо, – выглядел, как всегда, виноватым. Судья Флэтт явно считал его дураком, и Реймеру ничего не оставалось, кроме как стать таковым. Видимость важнее всего, и она снова его подвела. Справедливость? Откуда ей взяться, если невиновный кажется виновным, и наоборот?
Куда противнее множественных унижений в суде было то, что этот хрыч клеился к Бекке. Вскоре после того, как они с Реймером поженились, ее усадили возле судьи на торжественном ужине в честь его отставки. Судья всегда любил поглазеть на симпатичных молоденьких женщин и после смерти своей жены не видел причин, которые мешали бы ему, старому козлу, иногда флиртовать с чужой. Бекка в тот вечер нарядилась вызывающе (во всяком случае, по меркам Норт-Бата) – в черное платье с декольте. Они с судьей сидели в дальнем конце банкетного стола и весь ужин шушукались, как два старых приятеля, у которых масса общих воспоминаний. Один раз их головы соприкоснулись, Бекка поймала взгляд Реймера и расхохоталась. Он, естественно, заключил, что его честь позабавил ее рассказом о том дне, когда этот чертов дурак, ее муженек, чуть не застрелил пожилую леди на ее собственном унитазе.
– Такой душка, – восхищалась Бекка, пристегиваясь в машине, ремень безопасности оттянул ее декольте, целиком обнажив прелестную грудку. Интересно, удостоился ли судья Флэтт за морковно-имбирным супом этого, бесспорно, согревающего душу зрелища, подумал Реймер. – Он был сама любезность. И почему ты меня им пугал?
– Потому что он обозвал меня мудаком, – напомнил ей Реймер. Когда у них с Беккой завязались отношения, он сразу же рассказал ей о том выстреле, рассудив, что лучше пусть она услышит об этом от него, чем от городских сплетников, у них эта история до сих пор была в ходу, как и многие другие, в которых Реймер служил объектом насмешек. – При моем боссе. И при человеке, которого я арестовал.
– Ну… – начала его жена и замолчала, да так надолго, что Реймер задался вопросом, к чему она клонит. (“Это было сто лет назад?.. Наверняка он не имел в виду ничего плохого?.. Да и можно ль его за это винить?”) Он надеялся, что Бекка скажет: “Вообще-то он тебя очень хвалил”, но, разумеется, такого она не сказала. Вместо этого Бекка заключила: – Я знаю, как ты боялся этого вечера, но я отлично провела время.
По ее твердому убеждению, Реймер был слишком мнителен.
– Не всё в этой жизни имеет отношение к тебе, – любила она повторять, выставляя его нарциссом.
Впрочем, она права. У него действительно была дурная привычка всё принимать на свой счет. Взять, к примеру, две драматические отставки судьи. Первое заявление об увольнении он написал в тот день, когда Реймера назначили начальником полиции. Неужели совпадение? А то, что второе заявление судья подал ровно четыре года спустя, когда Реймера переизбрали? Да, разумеется, совпадение, заверяла его Бекка, что же еще. В последние двадцать лет бедняга перенес три вида рака, сперва у него обнаружили опухоль в легком, потом метастазы в простате и, наконец, крошечное, однако злокачественное новообразование в стволе головного мозга, которое поначалу, казалось, лишь обострило грозный интеллект судьи, изощрило ум и язык, хотя ни то, ни другое, ни третье, по мнению Реймера, в совершенствовании не нуждалось. Он даже решил, что, видать, рак не такой уж смертельный недуг, каким его выставляют, когда вдруг прошел слух, что старик впал в кому; через несколько дней судьи наконец не стало.
В связи с этим Реймер с удивлением обнаружил, что его обуревают противоречивые чувства. С одной стороны, судья никогда более не уставится на него этим своим осуждающим взглядом, от которого сжимаются яйца. И еще этот человек, мнение которого считалось непререкаемым, никогда уже не обругает Реймера, разве что в воспоминаниях. Но если душа бессмертна, как уверены многие, не значит ли это, что судья Флэтт будет вечно считать Реймера идиотом? Разве это справедливо? Неужели он и правда такая бездарность? Да, в школе он не хватал звезд с неба. Он вел себя прилично, никогда не доставлял неприятностей учителям, и все же в конце школьного года они явно вздыхали с облегчением, когда Реймер вместе со сверстниками переходил в следующий класс и возиться с ним предстояло кому-то другому. И только мисс Берил, которая по-прежнему рисовала треугольники и спрашивала Реймера на полях сочинений, кто он, казалось, питала к нему нечто вроде симпатии, хотя и в этом Реймер не был уверен. Старушка вечно подсовывала ему книги, и другой мальчишка счел бы эти дары поощрением, Реймер же гадал, уж не хочет ли мисс Берил его наказать за какой-то проступок, который он сам не заметил.
На обложке одной из книг, вспомнил Реймер, были нарисованы люди, летящие на воздушном шаре. Иллюстрация эта резала Реймеру глаз. Цвета воздушного шара чересчур яркие, люди, судя по лицам, счастливы очутиться в крошечной этой корзине, хотя здравый смысл подсказывает, что в жизни они обосрались бы от страха. Еще одна книга была об исследователях, которые через вулкан проникли в недра Земли. Что, черт побери, мисс Берил пыталась ему сказать? Что ему следует подумать о том, чтобы убраться подальше? А вверх или вниз, не имеет значения, только бы с глаз долой?
Разумеется, он благодарил ее каждый раз, но дома запрятывал книги на верхнюю полку шкафа, где его низенькая матушка не заметит их (разве что встанет на стул) и не задастся вопросом, откуда они взялись. Все его детство она таила глубоко укоренившийся страх, что он станет вором, как ее отец, и всякий раз, как у Реймера появлялось что-то, чего она ему не покупала, мать немедля допытывалась, откуда это взялось. И если его объяснение казалось ей подозрительным или неубедительным, жди беды: мать принималась орать, рыдать и рвать на себе волосы как сумасшедшая – собственно, из-за этого отец Реймера в конце концов и ушел из семьи. Особенно Реймер пугался, когда она рвала на себе волосы, они у нее и без того были настолько жидкие, что просвечивала бледная кожа, а ему вовсе не улыбалось стать единственным ребенком в городе, у кого лысая мать.
– Вот придут и арестуют тебя, – снова и снова грозила мать, глаза опухшие, покрасневшие, бешеные. – Именно так с ворами и поступают.
Мать сверлила его глазами, дожидаясь, пока он проникнется этим откровением, после чего с тяжким вздохом устремляла взгляд в пустоту, в глубины своей памяти, на главное событие своего детства.
– Моего отца арестовали. Поднялись к нам на крыльцо, постучались в дверь. Я умоляла маму не открывать, но она открыла, они вошли и арестовали его.
Мать Реймера снова переживала ту страшную минуту и возвращалась в настоящее к сыну для неминуемого эпилога:
– Как он плакал! Как упрашивал не увозить его!
Прозрачный намек на то, что, когда придет время, Реймер тоже будет рыдать и умолять полицейских не увозить его в каталажку. И хотя он ни разу ничего не украл и не собирался, все же не мог окончательно сбросить со счетов возможность того, что виделось ей столь отчетливо. План его, если можно так выразиться, заключался в следующем: он запретит себе хотеть чего бы то ни было настолько сильно, чтобы появилось серьезное искушение украсть желаемое.
Многие книги, которые дарила ему мисс Берил, были старые, пахли плесенью, уголки их страниц загибались – такие книги хочется сбыть с рук, – но были и книги в более приличном состоянии, какие-то даже новые. На форзаце часто встречалось имя “Клайв Пиплз-мл.”. Реймер спросил мисс Берил, кто это, и она ответила, что это ее сын, но он уже вырос, стал банкиром. И так она это сказала, будто Клайв-мальчик или Клайв-мужчина не оправдал ее ожиданий. Быть может, он тоже так и не понял риторический треугольник? Реймер всем сердцем сочувствовал парню. С такой матерью вся твоя жизнь – одни большие поля тетрадного листа, на которых она задает тебе неразрешимые вопросы.
И все-таки Реймеру было неловко притворяться, будто он прочитал все книги, которые она ему подарила; он ломал голову, как ее остановить. Еще он был бы не прочь, если бы она перестала расспрашивать его о книгах, которые он якобы прочитал. Вот бы она была как прочие учителя: когда он осенью здоровался с ними у “Вулворта”, они таращились на него безучастно, точно за считаные месяцы начисто позабыли о его существовании. Реймер боялся, что старая леди Пиплз, напротив, не забывает ничего и никогда – и его забывать не намерена.
Как и многие его опасения, это тоже оказалось небеспочвенным. Мисс Берил донимала его всю старшую школу. “Дуглас, что ты сейчас читаешь?” – спрашивала она всякий раз, как их дорожки пересекались, а когда Реймер оказывался не в силах припомнить ни единого названия, она приглашала его зайти к ней домой, потому что “у меня есть кое-какие книги, которые, как мне кажется, будут тебе интересны”. Всякий раз он обещал, что зайдет, но, конечно, ни разу не сдержал слова. Мисс Берил тогда уже вышла на пенсию, и, скорее всего, ей было одиноко – ее муж, школьный автоинструктор, десять лет назад погиб при исполнении служебных обязанностей: начинающая ученица с испугу врезала по тормозам, и он влетел в лобовое стекло. Реймеру было жаль, что мисс Берил одиноко, но ведь он-то тут ни при чем, вдобавок он чувствовал, что она твердо намерена и дальше писать вопросы на полях его души.
После выпуска Реймер год кантовался в муниципальном колледже на юге штата, но потом мать заболела, денег не стало, и он возвратился в Бат. Перестав общаться с мисс Берил, он обнаружил, что уже ее не боится и, пожалуй, немного скучает. Он не раз подумывал навестить ее, может, спросить, зачем она дарила ему все эти книги. Возможно, он даже признался бы ей, что и сейчас, как в восьмом классе, понятия не имеет, кто такой Дуглас Реймер. Но к тому времени у нее уже поселился Дональд Салливан, а Реймеру как-то не верилось, что один и тот же человек способен питать симпатию к двум таким разным людям. Ну и отлично, сказал он себе. Пусть старушка пишет на полях Салли. Посмотрим, как это понравится ему.
Примерно в это же время он устроился уборщиком в колледж Шуйлер-Спрингс, там познакомился со старым копом, следившим за порядком в колледже, коп предложил ему пойти в полицейскую академию, что Реймер в итоге и сделал. И обнаружил, что форма почти ничем не хуже индивидуальности, даже мисс Берил, казалось, искренне обрадовалась (и чуточку удивилась), когда впервые увидела его в форме. “Этот наряд чудесным образом придал тебе уверенности в себе, – заметила она. – Твоя мать, должно быть, гордится тобою”. Но мать, если Реймер не ошибался, чувствовала не гордость, а, скорее, облегчение. Став полицейским, он развеял ее давний страх, что он окончит дни за решеткой. У него не хватало духу сказать ей, что одно другого не исключает.
А потом в его жизнь ворвалась Бекка. Реймер остановил ее за превышение – она ехала пятьдесят при разрешенных тридцати пяти. И права, и номера у нее были пенсильванские; в Бат она перебралась всего неделю назад. Я актриса, пояснила Бекка (что ж, она, несомненно, достаточно красива для этого), и так гнала, потому что опаздываю на репетицию в Шуйлер-Спрингс, а режиссер будет ругаться. Возможно, даже снимет меня с роли. Быть может, вы отпустите меня с устным предупреждением? Боже, ее улыбка.
Реймер и рад бы был согласиться, но нет. Она опасно превысила скорость, и отпустить ее потому лишь, что она красавица, улыбнулась ему и, протягивая права, коснулась его запястья, будет неправильно. Реймер выписал ей штраф, чем немало ее изумил; позже она призналась, что ее не раз останавливали за превышение и всегда отпускали, даже не пожурив. Поступок Реймера заставил Бекку задаться вопросом, что он за человек. И когда через три месяца она заявила: “Знаешь что, а сделай-ка мне предложение”, Реймер обрадовался, он не верил своей удаче.
Как быстро улетучилась радость от этой удачи! Когда они уезжали в свадебное путешествие, Реймер заметил, что чемодан Бекки подозрительно тяжеловат, но решил не спрашивать, чтобы с самого начала не испортить отношения с женой. По приезде, когда он взгромоздил ее чемодан на двуспальную кровать и Бекка отщелкнула замки, из чемодана вывалились пьесы и три-четыре толстых романа; кровь отхлынула от лица Реймера. Разумеется, в квартире Бекки он видел массу книг, шкафы ломились от книг по актерскому мастерству, романов и пьес. Его не смущало, что Бекка любит читать. Она ведь девушка, а многие девушки, в том числе и тощие студентки колледжа в Шуйлере, страдают тем же недугом. Но ведь их свадебное путешествие продлится всего неделю. Зачем ей столько книг? Первым делом Реймер с испугу подумал, что они друг друга не поняли и Бекка хочет, чтобы их брак был платоническим. Оказалось, это не так, хотя, стоило им закончить заниматься любовью, как Бекка тут же с довольным вздохом утыкалась в книгу, отчего Реймер чувствовал себя короткой и, возможно, проходной главой. Читала она и возле бассейна, и на обратном пути в самолете и закрыла последнюю книгу, когда шасси коснулись земли.
На выдаче багажа, когда они в ожидании своих чемоданов наблюдали, как кружатся чужие, Реймер решился спросить прямо:
– Почему ты так много читаешь?
Бекка сперва, кажется, не поняла вопроса – или того, что этот вопрос продиктован искренним и глубоким недоумением. Потом пожала плечами и ответила:
– Как знать? Наверное, потому же, почему и все. Чтобы сбежать. Вот!
Она вскинула руку, и Реймер на миг растерялся, решив, что она углядела возможность сбежать от него, а не свой чемодан на ленте. И все-таки – она читает, чтобы сбежать? Почему? Реймеру ни разу за всю их медовую неделю – теплое солнце, изысканные напитки и яства, секс, от которого подкашиваются ноги, – не хотелось оказаться где-нибудь еще, не там, где он есть.
– Ты, наверное, всё знаешь о риторическом треугольнике, – сказал он и почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Знает, конечно, как не знать. И, что еще обиднее, понимает – и треугольник, и Святую Троицу, и вообще все абстрактные идеи, которые озадачивали Реймера все его долгое и мучительное детство и юность. Он умудрился жениться на той, кому нравится учиться. Он буквально видел, как его молодая жена тянет руку на первой парте, едва ли не машет учителю в надежде, что ее спросят, поскольку уверена в своих знаниях. Он даже представлял себе выражение ее лица – смесь обиды и ликования, – когда учитель вызывал не ее, а олуха с задней парты, который усиленно пытается слиться со стеной и практически никогда не знает правильного ответа, а в тех редких случаях, когда знает, не отваживается тянуть руку.
– Что такое риторический треугольник? – спросила Бекка, сняла чемодан с ленты транспортера и впилась пристальным взглядом в мужа. – Ты что… плачешь?
Он действительно плакал.
– От любви к тебе, – пояснил Реймер.
Он и правда ее любил, но плакал все-таки не поэтому. Он вдруг с предельной ясностью осознал, что они невозможно, отчаянно разные. И самое мудрое для него – радоваться, что Бекка с ним, хотя вряд ли надолго.
– Интересно, где твой. – Бекка принялась рассматривать ползущие чемоданы, а может, лишь притворилась, досадуя, что Реймер при всех дал волю чувствам, словно он и не мужчина. – В самолет их грузили одновременно. Логично предположить, что и доставали тоже.
– Видимо, потерялся. – Реймера охватила уверенность, что так и есть.
– Боже мой, ну ты и пессимист.
Бекка привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть. Как ни странно, она была настолько же уверена, что чемодан вот-вот появится, насколько Реймер – в том, что чемодан пропал навсегда.
И он оказался прав. Чемодан пропал – как он сам.
“Бекка”, – подумал он, и глаза его наполнились слезами при воспоминании о той недолгой поре, когда они были влюблены друг в друга. Прочие скорбящие по-прежнему не обращали на него ни малейшего внимания, и Реймер отважился посмотреть на ее могилу. Он примерно помнил, где та расположена, но здесь, в Дейле, вместо памятников надгробные плиты и точное место не определишь. На одной из могил на том участке лежал букет длинных алых роз, и Реймера, никак не отметившего первую годовщину смерти жены, запоздало уколола совесть. Бекка была единственным ребенком, ее родители погибли в автокатастрофе – она тогда была старшеклассницей, – а театральные ее приятели слишком поглощены собой, чтобы скучать по Бекке или даже помнить о ней. Кроме Реймера, делать это было некому, разве что Элис Мойнихан.
Или того мужика, с которым Бекка намеревалась сбежать.
Гас с озадаченным видом снова ткнул его локтем, и Реймер спохватился, что достал из кармана пульт от гаража и машинально вертит в руках. Вскоре после того, как Бекки не стало, он продал ее “рав” тому же салону “тойота”, где они два года назад покупали машину. Реймер полагал, что забрал из машины все вещи, но на сервисе, когда “рав” готовили к перепродаже, под водительским креслом, отодвинутым до упора, обнаружили этот пульт. “Вы, наверно, его обыскались, – сказал сотрудник автосалона, отдавая Реймеру пульт. – Даже не представляю, как он туда завалился”.
Реймер сперва, разумеется, решил, что пульт от их гаража. На следующий день после похорон Бекки Реймер выставил их таунхаус на торги и подумал, что надо бы не забыть отдать пульт новым владельцам. А потом, чтобы не потерять, положил его в ящик письменного стола, начисто позабыл о пульте и вспомнил лишь пару недель назад. Дом продали очень быстро, и Реймер отчетливо помнил, что на оформлении договора вместе с ключами от входной двери отдал два пульта от гаража. А этот пульт тогда от чего?
– Все в порядке? – шепотом спросил Гас.
– Все отлично, – также шепотом ответил Реймер (хотя, если честно, голова у него кружилась) и убрал пульт в карман.
– Тогда не раскачивайся.
Он и не осознавал, что раскачивается, но все-таки перестал.
Возможно, конечно, эта странная маленькая загадка никак не связана с Беккой. “Рав” использовали для тест-драйвов, на момент покупки он набегал несколько сотен миль, так что пульт вполне мог принадлежать кому-то из продавцов автосалона. Но все-таки вряд ли. Пульт не уронили. Нет, его специально сунули под сиденье. Одно из самых серьезных препятствий для внебрачных связей в маленьком городке – куда спрятать автомобиль. Оставить на улице возле дома – заметят и, может, узнают. Оставить за пару кварталов – все равно решат, что ты крутишь роман, только с другим человеком. Лучше приехать под покровом темноты, поставить машину в гараж любовника и опустить дверь, пока не опознали ни тебя, ни твою машину.
– Что это? – спросила Кэрис, когда внезапно зашла к нему в кабинет и обнаружила, что Реймер рассматривает пульт, точно ископаемое.
– Пульт от двери гаража.
– Это я вижу, – ответила Кэрис, как всегда, раздраженно – по крайней мере, при общении с ним. – Я имею в виду, что за история с ним связана?
Реймер объяснил, где обнаружил пульт – в “раве” Бекки под сиденьем водителя.
– Выкиньте вы его, – отрезала Кэрис.
– Почему? – удивился Реймер, поскольку с первого взгляда догадался: она пришла к тому же выводу, что и он.
– А я вам скажу почему. Потому что дело совершенно необязательно в том, о чем вы подумали.
Она имела в виду: “О чем мы подумали”.
– Может, она просто кому-то давала свою машину, – продолжала Кэрис, – и этот человек выронил пульт.
– Но если она кому-то давала машину, почему у него был с собой пульт? Почему он не оставил его в своей машине? Вот вы, например, носите с собой в сумочке пульт от гаража?
– У меня нет пульта. И даже нет гаража. И вообще-то вас не касается, что у меня в сумочке.
– Окей, – ответил Реймер, решив пропустить ее слова мимо ушей. С Кэрис разумнее пропускать мимо ушей боґльшую часть того, что она говорит. – Тогда как он очутился под сиденьем?
Кэрис пожала плечами:
– Я всего лишь хочу сказать, что объяснение может быть самое безобидное.
Реймер приподнял бровь.
– С тех пор как Бекки не стало, у вас мозги набекрень. Не спорьте.
Она имела в виду, что он продал дом. Переехал в “Моррисон-армз”. Продал “рав”, а не свою поганую “джетту”. Все три решения были продиктованы злостью и ненавистью к себе.
– Ну и к тому же, – Кэрис высилась над ним, уперев руки в боки, – предположим, что вы правы, хотя это не так. Что именно вы намерены делать? Обойти все дома в Бате и направить пульт на каждый гараж, вдруг какая-то дверь да откроется?
Вообще-то именно такой план и созрел в голове у Реймера, пусть ему и не хотелось признаваться в этом той, кто явно поднимет его на смех. Но так ли плоха эта мысль? В конце концов, Бат – городок небольшой и в свободное время Реймер обойдет его весь, район за районом. Это ли не правильное, методичное полицейское расследование, позволяющее исключить невиновных?
– С дверьми гаражей дело такое, шеф. Они вроде как посылают радиосигнал, вот только эта штуковина – та, которая у вас в руках, – не единственная с таким же сигналом. Это как ключи от машины. Допустим, у вас “фольксваген джетта”.
– У меня и так “фольксваген джетта”.
– Вот видите. И у вас есть ключ, который заводит машину.
– Кэрис…
– Но вы кое-чего не знаете, поскольку вы не преступник. Этим ключом – ну, тем, который от вашей машины, – скорее всего, получится завести еще пяток “фольксвагенов”, а может, даже парочку “ауди”. Любого “немца”. И это только здесь, в округе Шуйлер. Не считая Олбани. И всего штата Нью-Йорк.
Логика Кэрис, как бывало нередко, озадачила Реймера.
– То есть вы преступница, раз все это знаете?
– Я это знаю, потому что я знаю массу преступников. Кроме нас с Джеромом (так звали брата Кэрис) в нашей семье преимущественно жулье. Мой двоюродный брат из Джорджии сидел за попытку угона. Он вскрыл тачку, сработала сигнализация, его загребли. И знаете, что самое обидное? Оказалось, у него был ключ, которым можно ее завести. Ему даже не надо было ее вскрывать.
– Он угонщик. Его поймали и посадили в тюрьму. Что тут обидного?
– К тому же, – не унималась Кэрис, – как будет выглядеть начальник полиции, если примется обходить чужие дома и пытаться открыть гаражи? Как олух царя небесного, вот как.
В этом она оказалась права. Назавтра с раннего утра Реймер начал расследование в их с Беккой старом квартале, просто чтобы проверить. В конце концов, вряд ли она крутила роман с кем-нибудь из соседей, ведь тогда она не ездила бы, а ходила пешком. Реймеру было любопытно проверить, правда ли, что, как утверждала Кэрис, пульт может открыть дверь того, кто вовсе ни при чем. Он шел по одной стороне улицы, вернулся по противоположной, но ни одна из дверей не дрогнула. Реймер даже попытался открыть дверь гаража в их прежнем с Беккой доме – вдруг это все-таки запасной пульт, о котором он позабыл? Когда Реймер вернулся к “джетте”, там его дожидался мужчина в домашнем халате.
– Ну и что всё это значит? – спросил он, недобро и подозрительно хмуря брови, и указал на пульт.
– Полицейские дела, – ответил Реймер (объяснение жалкое, но порою срабатывало).
– Вы пытались открыть дверь моего гаража, какие еще полицейские дела?
Реймер повторил ему то, что узнал от Кэрис об устройстве пультов, намекая на то, что интерес его чисто профессиональный и дело касается его лично, поскольку “вдруг с вашего пульта можно открыть дверь моего гаража и проникнуть в мой дом”.
– Да, но я-то не направлял пульт на ваш дом. Это вы направляли свой пульт на мой дом.
– Я говорил гипотетически, – сказал Реймер.
– А я нет, – ответил мужчина.
На следующий день Реймер сглупил: рассказал о случившемся Кэрис. “Что я вам говорила?” В этом вопросе она была непреклонна – вещь ей несвойственная, хотя с Кэрис не угадаешь. Вообще-то она непреклонна во многих вопросах. “Выбросьте вы эту штуку. Вы внушили себе, что этот пульт означает измену. Но это не так. Вдобавок вы игнорируете настоящую проблему”.
Она имела в виду его психическое здоровье. Кэрис твердила, что у него клиническая депрессия. “Судите сами… посмотрите хотя бы, где вы живете”, – говорила она, как будто клоповник, куда перебрался Реймер, в спешке продав их с Беккой дом, многое объяснял. Да, “Моррисон-армз” действительно паршивая муниципальная многоэтажка в таком же паршивом райончике в южной части города. В народе ее прозвали “Морильней”. Да, половина звонков в полицейский участок так или иначе связана с “Моррисон-армз” – торговля наркотиками, оглушительная музыка среди бела дня, срочные вызовы из-за бытового рукоприкладства, или какой-нибудь псих орет во дворе матом – просто так, ни на кого, – или вдруг сообщат о стрельбе. Оружие, насколько было известно Реймеру, там тоже продавали. Поначалу он думал, что, поселившись в “Моррисон-армз”, сэкономит время и избавится от необходимости ездить туда-сюда. Может быть, от одного лишь его присутствия здесь даже сократится число и тяжесть правонарушений? Но вынужден был признать: пока что никаких поддающихся количественному определению доказательств этого не последовало. Ни жильцы, ни их гости ничуть его не боялись и даже, если уж на то пошло, словно и не замечали. Более того – его собственную квартиру ограбили дважды, ни то ни другое преступление раскрыть пока что не удалось, хотя его кассетник выставили на продажу в ломбарде в Скенектади по столь смехотворной цене, что Реймер сам его и выкупил.
– Джером прав, – не унималась Кэрис, не желая оставлять тему его затянувшейся на год депрессии. Брату ее тоже было что сказать о состоянии Реймера – не меньше, чем самой Кэрис. – С тех пор как Бекки не стало, вы наказываете себя. Как будто это ваша вина, как будто это вы ей изменяли. Вот в чем дело: вы сами себя наказываете.
– Когда я узнаю, кто он, – Реймер потряс пультом, – наказание ждет не меня.
– Ну ясно. Вы узнаете, кто он, – точнее, решите, будто узнали, потому лишь, что дверь его гаража открылась, – пристрелите его и сядете в тюрьму. И кто в таком случае останется на бобах?
В ее словах есть резон, подумал Реймер, хотя вряд ли того, кого пристрелили, можно назвать везунчиком. Да и не так все будет. Прежде чем думать о наказании, необходимо провести всестороннее расследование, кропотливо собрать улики. И пульт станет лишь одним из звеньев в этой крепкой цепи, а последним звеном, надеялся Реймер, будет признание. Тогда и только тогда он решит, кто кого отымеет. Он пытался объяснить все это Кэрис, но она, разумеется, и слышать ничего не хотела. За три года, что они проработали вместе, Реймер ни разу не победил в споре с этой женщиной и вряд ли победит сейчас.
С другой стороны, возможно, она права. На такой изнурительной жаре, в каких-то пятидесяти ярдах от могилы Бекки он почувствовал, что решимость его слабеет. Кэрис права. Потеряв Бекку, он словно утратил опору. Как будто лишился не только жены, но и веры в справедливость – и на этом свете, и на том. Дело вовсе не в наказании. Реймеру всего лишь хотелось выяснить, кто этот мужик. Кого Бекка предпочла ему. Но Реймер вынужден был признать, что и это опять-таки глупость, поскольку список мужчин, которых Бекка предпочитала мужу, скорее всего, внушительный. Пожалуй, Кэрис права насчет “Морильни”, где всё, от ворсистого ковролина блевотно-зеленого цвета до ржавых потеков на потолке, провоняло прогорклым маслом, плесенью и канализацией. Бедная Кэрис. Она боялась, что если Реймер не будет осторожнее, то запутается окончательно и сломает себе жизнь. Она явно не понимала, что это уже случилось.
Желания
На грунтовой обочине дороги, отделявшей Хилл от Дейла, Руб Сквирз сидел в тени экскаватора, на котором сегодня утром вырыл могилу судье. Будь на то его воля, Руб оставил бы экскаватор на кладбище, но его босс, мистер Делакруа, сказал, что скорбящим неприятно видеть возле свежевырытой могилы экскаватор, еще неприятнее сознавать, что яму копала эта невзрачная бесчувственная машина, и, уж конечно, тем более неприятно видеть сидящего на ней такого вот Руба Сквирза, которому явно не терпится, чтобы усопшего поскорее предали земле и можно было закончить сегодняшнюю работу. И Руб – а в тот день ему и впрямь не терпелось закончить работу – отогнал экскаватор за добрую сотню ярдов и уселся в его тени.
– З-з-знаешь, чего бы м-м-мне хотелось? – произнес он вслух.
В детстве он страдал от сильного заикания. Когда Руб вырос, оно прошло, но сейчас отчего-то вернулось. Последнее время он начал разговаривать сам с собой – наверное, потому что, когда Руба никто не слышал, он заикался меньше, – но представлял, будто разговаривает со своим другом Салли.
Чего? Чего бы тебе, черт п-п-побери, хотелось? Руб знал, что Салли именно так и ответил бы, будь он здесь. В лучшем друге – окей, единственном друге – Руба устраивало практически все, но порою ему хотелось, чтобы Салли подшучивал над ним пореже. Особенно над заиканием. Но Руб понимал, что Салли так общается со всеми и не стремится никого обидеть. И все равно Рубу это надоело.
– Мне бы хотелось, чтобы этот тип замолчал.
Чувак в белом балахоне трындел уже очень долго, добрые полчаса, Руб в этом не сомневался. В пятницу короткий рабочий день, мистер Делакруа сказал: закончишь с судьей, поставишь экскаватор в сарай, запрешь его – и свободен.
– Тогда бы все пошли домой, а мы бы с тобой доделали дело.
Можно подумать, засыпаґть гроб землей они будут вдвоем, Руб и Салли, как в старые добрые времена, и управятся в два счета.
И опять в его голове прозвучал голос Салли. Много хочешь – мало получишь, балбес.
Руб не сердился, что Салли называет его балбесом, Руб считал это признаком симпатии. Салли почти всех мужчин называл балбесами, а женщин – куколками, невзирая на возраст.
– А знаешь, чего бы мне хотелось по-настоящему? – продолжал Руб, не обращая внимания на подколку.
В одну руку сложи желания, а в другую насри. Сообщи, какая наполнится первой.
– Мне бы хотелось, чтобы ты не был таким забывчивым, – продолжал Руб, поскольку Салли в последнее время ничего толком не помнил, а Руб сомневался, что сумеет справиться с разочарованием, если сегодня о нем забудут.
Я не забуду. Я уже положил стремянку в кузов пикапа.
Салли согласился помочь Рубу с высоким деревом, которое росло сбоку дома Руба и его жены; когда дул ветер, ветка этого дерева скребла по окну комнаты Бутси, и та бесилась.
То есть как – по окну ее комнаты?
Супружеская постель опротивела Рубу уже на первом году их брака. И, дабы избежать ее тягот, он наплел Бутси, будто она храпит; она не храпела, но это позволило ему поселиться в пыльной пустой неотапливаемой конурке в другом конце коридора. Спал Руб на старой армейской раскладушке, слишком хлипкой и узкой, чтобы выдержать женщину такого внушительного телосложения, как у Бутси. Руб не раз объяснял это Салли, но тот все равно не прочь был его поддеть. Впрочем, Бутси быстро заменила мужа, перебравшегося в другую комнату, бульварными любовными романами и читала запоем – вот от чего немилосердно отвлекал ее ветер. Когда по стеклу царапала ветка, Бутси казалось, будто это скребется, умоляя впустить его в дом, ребенок, о котором она когда-то мечтала и которому уже не бывать.
“Откуда взяться ребенку на высоте в тридцать футов от земли, на дереве за окном ее комнаты?” – возражал Салли.
Руб задавался тем же вопросом, но ему хватало ума не спрашивать об этом Бутси. Обрезать противную ветку – минутное дело, но Руб в последнее время виделся с Салли куда реже прежнего и надеялся растянуть обрезку на целый вечер – при условии, конечно, что Салли вообще об этом вспомнит.
– А з-з-знаешь, чего бы еще м-м-мне хотелось? – спросил Руб.
Чего?
– Чтобы все было по-старому.