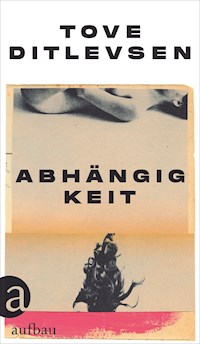Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: No Kidding Press
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Успешная писательница Лизе Мундус тяжело переживает развод с мужем Вильхельмом. Их долгая совместная история складывается из напряжения и соперничества, любви и ненависти, череды измен, мучительного притяжения и отталкивания. Внутри брака они разрушают друг друга, за его пределами — всех, кто попадается им на пути. Лизе дает в газете объявление о поисках нового мужчины, на которое откликается Курт, молодой человек с туманным прошлым. Он поселяется в бывшей комнате Вильхельма, но Лизе не находит покоя. Она публикует в таблоиде серию статей, где открыто рассказывает о крушении своего брака и вновь проходит по всем кругам семейного и личного ада. «Комната Вильхельма» — блестящий модернистский текст, хрупкий и жесткий одновременно. Дитлевсен разворачивает повествование как многослойную метафору потери смысла. Роман отражает опыт отношений Тове с ее четвертым мужем, журналистом и редактором Виктором Андреасеном, но автобиографичен лишь отчасти. Лизе Мундус, знакомая читателям по книге «Лица», живет в зыбком сумрачном мире, который держится на системе двойников и подмен. В нем сталкиваются и порой сливаются воедино рассказчица и героиня, литература и откровения в желтой прессе, бывший муж и его невнятный суррогат, нежный сын-подросток и мальчик Кай с ледяным сердцем, таинственные переговорщики, которые вторгаются в дом Лизе, и навязчивые болезненные мысли, которые разъедают ее сознание.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Издание осуществлено при поддержке Danish Arts Foundation
Tove Ditlevsen
Vilhelms værelse
Gyldendal
Тове Дитлевсен
Комната Вильхельма
No Kidding Press
Информация от издательства
Дитлевсен Т.
Комната Вильхельма / Т. Дитлевсен ; пер. А. Рахманько, под ред. О. Дергачевой. — М. : No Kidding Press, 2022.
ISBN 978-5-6047288-4-0
Успешная писательница Лизе Мундус тяжело переживает развод с мужем Вильхельмом. Их долгая совместная история складывается из напряжения и соперничества, любви и ненависти, череды измен, мучительного притяжения и отталкивания. Внутри брака они разрушают друг друга, за его пределами — всех, кто попадается им на пути. Лизе дает в газете объявление о поисках нового мужчины, на которое откликается Курт, молодой человек с туманным прошлым. Он поселяется в бывшей комнате Вильхельма, но Лизе не находит покоя. Она публикует в таблоиде серию статей, где открыто рассказывает о крушении своего брака и вновь проходит по всем кругам семейного и личного ада.
«Комната Вильхельма» — блестящий модернистский текст, хрупкий и жесткий одновременно. Дитлевсен разворачивает повествование как многослойную метафору потери смысла. Роман отражает опыт отношений Тове с ее четвертым мужем, журналистом и редактором Виктором Андреасеном, но автобиографичен лишь отчасти. Лизе Мундус, знакомая читателям по книге «Лица», живет в зыбком сумрачном мире, который держится на системе двойников и подмен. В нем сталкиваются и порой сливаются воедино рассказчица и героиня, литература и откровения в желтой прессе, бывший муж и его невнятный суррогат, нежный сын-подросток и мальчик Кай с ледяным сердцем, таинственные переговорщики, которые вторгаются в дом Лизе, и навязчивые болезненные мысли, которые разъедают ее сознание.
© Tove Ditlevsen & Gyldendal, Copenhagen 1975. Published by agreement with Gyldendal Group Agency
© Анна Рахманько, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2022
Комната Вильхельма
1
Комнаты больше не существует. Каждый раз, без дела проходя мимо, я заглядывала в мутные окна и следила за ее разрушением. Я молча стояла на бульваре и наблюдала за разрушителями в белом: они всегда делали вид, что не замечают меня. Однако между нами установилось странное, нелепое соглашение, как между двумя обнимающимися людьми, которые ненавидят друг друга до глубины души. Стоило мне в ярких лучах солнца прижаться лицом к окну — и разрушителей тут же охватывало что-то наподобие опьянения, казалось, оно наполняло их сверхчеловеческими силами. Они рушили стены, тащили двери на обнаженных потных спинах, бросали их в контейнер — он стоял прямо у ворот. Пол сотрясался от их чрезмерных движений, напоминающих танец: крошечные половицы паркета не выдерживали их тяжести. Как только исчез высокий потолок с изящной лепкой и тучными алебастровыми ангелами, исчез и мой интерес к этому опустошению, и я принялась восстанавливать комнату внутри себя. Теперь она жила там, наполненная шепчущимися тенями, кротким смехом, напоминавшим насмешливые крики птиц, и теплыми слезами, которые либо можно унять поцелуями, либо им нужно позволить свободно сочиться, словно влаге из разрывов в обоях со следами страсти и сомнений. Я хочу написать книгу о комнате Вильхельма и о событиях, которые в ней начались или произошли. Они привели к смерти Лизе, мне же удалось выжить — и лишь для того, чтобы записать ее общую с Вильхельмом историю. Другого смысла существования у меня нет. Мальчик живет в школе-интернате, куда его отдал отец — после смерти матери ребенок просто рассыпался на части. Это было разумным решением родителя. По выходным мальчика навещает девочка Лене — она похожа на его мать в молодости; они только и разговаривают, что о его детстве — таком мрачном и захватывающем, словно сказка. По сравнению с ним собственное детство кажется Лене таким скучным, что она даже не осмеливается заикнуться о нем. Я же одна, и всё, что делаю, исходит изнутри меня. Люди проходят насквозь, словно я всего лишь тень; только немногие воспринимают меня, как это делали разрушители, но остаются тактичными и притворяются, что не замечают.
Моя нынешняя квартира всего в двух улицах от прежней, но здесь не удастся жить по-настоящему. Слово «дом» потеряло свое значение, стало просто чем-то, что было у меня когда-то. Я сижу за печатной машинкой — она иногда сама решает, какую клавишу нажать. Кроме кровати, шкафа и комода, в этой чуждой мне комнате больше ничего нет. Окна выходят на небольшой двор с мусорными контейнерами и велосипедной парковкой, в точности как в детстве. Остальные три комнаты всё еще заставлены коробками — правда, здесь пожилой вдовец не снял рулонные шторы и гардины, они всё равно не подошли бы к его новой квартире, добытой для него профсоюзом, когда переговорщики наконец-то воспользовались шансом разместить свои системы ЭВМ в бывшей комнате Вильхельма. Это говорит само за себя: комнату должны были разрушить, и переговорщики, с их глупыми и влажными глазами, так же как я и разрушители, стали всего лишь уловкой, чтобы добраться до внутренней истины, наполняющей любую человеческую жизнь смыслом и интересом. В истории Лизе и Вильхельма, которая в итоге, может быть, расскажет о многом другом, не было никаких случайностей и совершенно ничто не могло пойти иначе. Большинство фактов не имеют никакого значения, но некоторые из них неожиданно приобретают удивительный смысл, словно случайно вылавливаешь из мешка тряпку, которая добавляет узорам недостающей динамики и красоты.
Сегодня увезли контейнер, всё ценное оттуда вынули. Оставшееся — бесполезное, ломаный хлам: Вильхельм и Лизе никогда не прирастали сердцем к вещам; два человека, которые каждый день на протяжении двадцати лет навечно расходятся, не могут нажить ничего нового и хоть что-то изменить. Я выбросила любые изображения, чтобы лучше сосредоточиться на картинах на стенках моего сердца. Оставила только одно: моментальный фотоснимок Вильхельма и Лизе на холме Химмельбьерге. Мы молодые и счастливые и излучаем такую влюбленность, что, возможно, даже вызываем зависть у фотографа. Очередное начало с чистого листа пробуждает в людях желание разрушить уже созданное прекрасное сооружение или по крайней мере пересобрать камни так, чтобы оно получилось кривым и неправильным и больше не слепило глаза. Самое странное в настоящей любви — она хочет быть выставлена напоказ, как будто всё, что бы ни делали эти двое счастливцев, требует к себе внимания целого мира. Уже невозможно припомнить всего, что на самом деле было сказано друг другу, хотя тогда это и казалось страшно важным, и они почти не теряли времени на сон, ведь он означал молчание. Не успевали они осознать это, как молчание уже становилось естественным, а разговоры — своеобразной лихорадкой, охватывавшей их. И опасная пустота начинала заполнять зазоры между словами, которые они по несколько раз перекатывали во рту, прежде чем решались выплеснуть. Стены сдвигались, в комнате нечем было дышать. Но приходилось что-то говорить, неважно что, хотя и это стало непосильным: слова тонули в глубокой горькой тоске наших душ.
Остались лишь (с прошлого года в Биркерёде) такие слова, как «мясник», «дождь» или «мальчик», и мы со скрежетом перемалывали их сухими тихими голосами, чтобы избежать чего-нибудь страшного, предотвратить это порочное и необратимое событие. Был ли Вильхельм красивым? Безупречная кожа цвета густых сливок, смешанных с кофе. Высокие скулы, казалось, подтягивали глаза к вискам. Серо-карие, с темной каемкой вокруг радужки — под ними уже стлались дымчатые тени, которые выдавали наполненную страданиями и страстями жизнь. Я не понимала, как женщинам, которым не довелось его повстречать, удавалось чувствовать себя счастливыми, но точно так же потом я не понимала, как кто-нибудь мог влюбляться в него, когда я сама уже давно его не любила. Но они могли (нежная смиренная вереница парикмахерш, продавщиц, стажерок и фабричных работниц) и влюблялись, и с их чувством к нему ярко разгоралось и мое, и оно гнало прочь из его сердца, полного тайн, этих маковых барышень, эти хрупкие наброски, тонкие начинания. Мой Вильхельм, мой!
И, конечно, именно Милле — я привязалась к ней так крепко, что даже не знала, по кому из них больше скучаю, — именно она увела его! Милле не была ни молодой, ни красивой, ни умной, но ее хладнокровие превзошло наше, когда мы, изнуренные своей страстью, лежали и смеялись над маковыми барышнями, чьи прохладные лепестки беспрепятственно уносил ветер. «Так больше не могло продолжаться», — писала она в своем дурацком письме. Но что все наши страдания рядом с блаженством удовольствия? Полгода назад, узнав, что Вильхельм растолстел, Лизе металась в бессильной ярости. Милле набивала его, словно тушку гуся, холила, начищала и погребала все его темные мысли под горой печеночного паштета. Так не стало того Вильхельма, которого знала Лизе, от Милле ее воротило. Обычно гнев обрушивается на любовницу, но даже с ней Лизе помирилась, когда уничтожила собственный мир. А теперь я расскажу свою историю, и лишь потому, что просто обязана. И никому другому не сделать этого с той же точностью и непринужденностью…
2
Фру Томсен жила на доходы от сдачи комнаты молодым юношам из хороших семей. По крайней мере, именно таких она зазывала в своих газетных объявлениях. Я не вполне исключаю возможность, что в незапамятные времена где-то в ее огромной и грязной квартире существовало несколько таких свежих, еще с юношеским пушком парней, но, поскольку один лишь ее взгляд студил кровь в моих венах, исхожу из того, что они мгновенно исчезали. Фру Томсен подозревала своих съемщиков во всех нераскрытых преступлениях и почти не позволяла себе спать в страхе упустить недостающую улику, постоянно и неутомимо следила за передвижениями жильцов. Если они не исчезали сами, хозяйка выставляла их на улицу. А новые постояльцы появлялись прежде, чем она успевала сменить постельное белье. По крайней мере, так она объясняла им охрипшим запыхавшимся голосом, не поспевающим за мыслями, точно у людей с заиканием. Дойдя до красочного описания невообразимого блуда съехавших жильцов и причитаний о невозможности занять их делом — ведь она несчастная, больная и старая вдова, знавшая лучшие времена, — фру смягчалась до монотонного блеяния. Квартиранты фру Томсен становились всё старше и уродливее, и единственным занятием, которому они посвящали себя, был подсчет клопиных укусов, оставленных насекомыми за ночь.
Старухе же было всё равно. Стоило им пожаловаться — и, опередив квартирантов, она выставляла их за порог. Нередко она призывала для этого полицию и не забывала обратить внимание комиссара на все нераскрытые убийства, случившиеся за последние дни — и всегда в то время суток, когда подозрительным съемщикам удавалось ускользнуть из-под ее надзора. Она не упускала случая добавить, что однажды и ее найдут в постели с перерезанной глоткой. Я же не признаю ее правоту: если такое существование и возможно, то всевышний обычно отправляет жестокую и мгновенную смерть. Но меня не интересовало, что ожидало фру Томсен. Она всего лишь лоскуток моего мутного сознания, что покачивается на волнах слов и причаливает к ним с просьбой о помощи, в точности как я прошу читателей о помощи и даже о любви, в каком бы образе ни появлялось мое лицо: жидкое и нематериальное, как отражение в неспокойной воде, оно всплывало впереди других лиц, за которые было намного проще уцепиться.
Мы жили этажом ниже фру Томсен. Так как она редко выходила за порог своей квартиры, за все десять лет я встречала ее только три или четыре раза. Она молча впивалась в меня изучающим взглядом, будто хотела чего-то и злилась, что еще не наступило время. Ее глаза всегда были налиты кровью, словно она никогда не спала, и в ее уродстве крылось что-то настолько совершенное, что пробуждало во мне трепет уважения. Ее взгляд был таким холодным и ненасытным, что еще несколько дней после встречи наводил на меня страх. Ее спальня находилась прямо над комнатой Вильхельма, и я ощущала, как ее низкие пошлые мысли просачиваются сквозь потолок и смешиваются с моими — различить их было невозможно. Я почти уверена, что она стояла, прижавшись хрящеватым волосатым ухом к входной двери, в тот день, когда Милле неожиданно появилась в гостиной и заявила: «Как ужасно! Он больше никогда не вернется, и это после двадцати одного года вместе!» Вскинула руки, и ее лицо стало мокрым, словно кто-то нажал на кнопку включения оросительной системы, и я бросилась к ней, чтобы затолкать в нее слова обратно вместе с кучей зубов, готовых раствориться, как и вся Милле вместе со скелетом: ей хотелось превратиться всего лишь в мокрое место. Чуткость Милле, ее ужасная нехватка понимания, ее пронырливость! И мальчик, повзрослевший в одно мгновение, смотрел на всё глазами своего отца и пользовался его голосом: «Исчезни немедленно! Ты уже натворила достаточно бед!»
Довольной старухе пришлось, сгорбившись, убраться к себе. Она ненавидела всех женщин без исключения, если они были моложе и красивее нее, что означало примерно всю женскую часть человечества. Она ненавидела миф о настоящей любви, и этот день доказывал ее сомнения в существовании этого чувства. Но всё же тень такой любви лежала между уродливой хозяйкой и молодым человеком, которого покинула жизнь — да он и сам себя покинул. На нем старуха практиковала нездоровую силу притяжения — так что даже вонь из ее рта была частью этого.
Пусть и не в полную силу, но Курт всё-таки жил. Каждый раз утром, когда фру Томсен заходила к нему, он притворялся спящим, но сердце колотилось от мыслей, что может произойти. Вокруг становилось темно, и пока она, прихрамывая, приближалась к нему со своей беспрерывной болтовней и шуршанием нескончаемых газет, его тело начинало пылать. Он нежно гладил себя под скомканным одеялом покойного херре Томсена, которое пахло нафталином так резко, что истощенные клопы предпочитали погибнуть голодной смертью, чем приблизиться к нему. Хозяйка забавляла его невообразимыми историями об отвратительных убийствах на сексуальной почве и ужасающих смертельных муках, за которыми она, казалось, следила с равнодушной аналитической ясностью, словно планируя собрать наблюдения в некий научный труд. Под дрожащими веками Курт видел разбросанные по операционному столу воспаленные внутренности, и пьяные врачи тщетно пытались запихнуть их обратно. И он с жутким нетерпением ожидал мгновения, когда пациент очнется от наркоза и скончается от штормового моря крови и безумной боли.
Существовало много разных вариаций необычного ораторского представления, которое фру Томсен растягивала, насколько только можно, прерываясь только на надрывные отчеты еженедельных изданий о прекрасных юных девушках, отважно смотрящих в глаза надвигающейся смерти от рака, или о несчастной семье, чей ребенок был найден мертвым и подвергнутым грубому надругательству рядом с мусорными контейнерами, причем в ту самую ночь, когда исчез квартирант. Но она никогда не упускала нужного момента. Как только жертва начинала задыхаться, а руки под одеялом застывали на одном месте, она скидывала с себя синий халат и бросалась на него со страстью, которая только росла от ответного пренебрежения. Тогда он наконец-то открывал свои удивленные кукольные глаза: они были наполнены своего рода взволнованным восхищением перед силой в этом истощенном теле. После он мгновенно засыпал и, так как его совершенно не интересовали другие люди, никогда не задумывался над жизнью своей причудливой любовницы, когда она находилась вне поля зрения. Ему это было безразлично, точно так же, как не волновал его и вопрос, почему жертва до сих пор не сдалась и не умерла от одной из многочисленных неудачных операций. Единственное объяснение, иногда мелькавшее у него в голове, было таким же, как и у всех окружающих: жертва существовала лишь в его фантазиях. Но Курт не осознавал этого, потому что никогда не испытывал надобности в самоанализе. Некоторые ждали от него великих свершений. Он и в самом деле когда-то — до того, как люди перестали ждать от него хоть чего-нибудь, — принимался за целый ряд невнятных начинаний. Но фру Томсен, которая не позволяла никакой ценности оставаться неиспользованной и приписывала другим людям столь же низкие свойства, какими обладала сама, — фру Томсен уже давно раздражало, что это здоровое и пригодное тело валялось без дела, причем за ее счет. Не исключено, что ее заботило его счастье, но только если оно могло привести к несчастью окружающих. Кроме убийств и других жутких новостей она каждое утро скрупулезно изучала страницы с объявлениями. Она настолько была озабочена тем, чтобы успеть прочитать их быстрее всех, что стояла наготове за дверью и подхватывала газеты прежде, чем они успевали коснуться пола.
Этим воскресным утром Куртом, как обычно, владела ленивая дремота, в то время как уверенность в том, что скоро должно случиться, росла в нем, словно плод, который созрел ночью и ждал, чтобы его сорвали. Но этот благоговейный, ужасный и волнующий момент не наступил, потому что старуха ворвалась в комнату, в суматохе забыв прихлопнуть на лысом темени свой привычный сальный парик. (Волосы она потеряла еще во время одной из неудачных операций, проведенных врачом, с которым до сих пор судилась.) Курт ошеломленно уставился на нее, в его голове пронеслась мысль: дом в огне, или жилец-убийца гонится за фру Томсен с ножом. Тут взгляд упал на раскрытую газету в ее трясущихся руках, и он мгновенно ощутил себя уставшим и совершенно беззащитным. Мелкая дрожь в кончиках его пальцев утихла, и он недовольно сжал узкие ноздри, когда она опустилась на край его кровати и врезалась сухим ребристым ногтем в объявление с красным обрамлением, и без того выделявшееся своей длиной.
— Это она, — прошипела старуха ему в ухо. — Никаких сомнений. Прочти! Шанс всей твоей жизни.
— Кто? — Курт прижался к стене, словно надеясь, что та поглотит его хрупкое тело (хозяйка кормила только при необходимости и время от времени), вберет в свою кислую влагу и позволит проскользнуть между слоями обоев.
— Эта, что живет под нами, Лизе Мундус со своими любовными стихами. Я частенько тебе рассказывала, что у них творится. Мне всё стало ясно, когда увидела, как они с мальчишкой возвращаются с летних каникул одни. Предыдущий был слишком для нее умен. Она сбежала от него с этим, с нынешним. Брошенную женщину всегда узнаешь — по крайней мере, я могу: она выглядит голее, чем если ее совсем раздеть. Месяц назад за ней приезжала скорая, и такое уже не в первый раз. Хотя ее мужчина красотой и не отличался, сумасшедшая жена — это, должно быть, сущий ад. Она считала себя слишком утонченной, чтобы со мной здороваться. Но оказалась не слишком утонченной, чтобы дать объявление о поиске нового мужчины! Я-то никогда не опускалась так низко.
Всё это словоизвержение происходило на одном дыхании и с такой одержимостью, будто старуха боялась, что голос ее иссякнет, прежде чем она выскажется. Курту в этот момент казалось, что, будь у него нож и хотя бы толика злости и энергии, он с совершенным хладнокровием перерезал бы ей глотку. Жизнь была перебежкой от одного убежища к другому. От одной мечты к другой, а между мечтами только голод, холод и страхи…
Он прикрыл глаза и залез еще глубже под нафталиновое одеяло. Вежливо произнес:
— Если вы непременно хотите, чтобы я прочел это объявление, будьте так добры привести себя тем временем в порядок.
Он никогда не обращался к этой женщине на «ты», имени ее он тоже не знал.
Фру Томсен, которая очень ценила хорошие манеры, покорно удалилась, издав такой звук, будто проглотила устрицу. Курт рассеянно прочитал объявление, пытаясь вспомнить, что же он слышал об этой женщине. Но сюда же влились похожие истории, зловонные и раздражающие авантюры из человеческой клоаки — это был единственный мир, знакомый старухе: извращения, которые становились только чудовищнее от одного лишь намека на них. Зевая, он пробежался взглядом по объявлению, пользуясь своей почти утраченной способностью зацепиться за самое важное. «Вырвавшаяся из долгого и несчастливого брака, пятидесятилетняя, но молодая душой, с чудесным сыном пятнадцати лет, известная личность в датской литературе, летний домик, просторная квартира в центре города, временно выбитая из колеи нервным срывом, желательно с машиной». Курт выронил газету на грязный пол и вдруг почувствовал непреодолимое желание увидеть небо. Он почти двадцать лет перебивался лишь узкой полоской, которую удавалось разглядеть между крышами и стенами. Он потряс головой, чтобы тоска снова опустилась на дно, где и полагалось быть прошлому. Он не дорожил воспоминаниями; если к ним никогда не возвращаться, они тускнеют и исчезают. Возраст женщины испугал его, как и наличие друзей детства: со временем они превратились в карикатуры детей, которых он когда-то знал и с которыми когда-то играл. Курт Ущербный приходил в ужас от одной только мысли о страшных взаимообязанностях, которые могла потребовать эта женщина. Но Курт Добрый был тронут скромным выражением «желательно с машиной» и видел в этом не более чем отчаянную возможность ускользнуть от бессердечных требований хозяйки. Усталость повисла за его веками красными танцующими точками: всё было кончено — мечта осталась позади, и необходимо было совершить неисчислимое множество неприятных действий. В жизни Курта всегда присутствовало что-то такое, что больше не могло продолжаться, стоило ему только с этим смириться. Тут его существование едва ли отличалось от жизни других людей. Всегда найдется кровать умершего и кто-нибудь подходящий, чтобы расправить на простынях глубокие интимные складки, образовавшиеся за ночь. Всегда найдется фру Томсен, чтобы объявить, что этому нужно положить конец, и Курт Добрый или Курт Грозный, которому придется с этим смириться.
Когда хозяйка, у которой, по ее собственному выражению, недоставало более половины всех жизненно важных внутренних органов, а остальные находились в угрожающем состоянии, вернулась в свою бездонную пещеру сладострастия, одного ее вида было достаточно, чтобы изгнать из головы Курта любые мысли о спасении. Она натянула не только седой плешивый парик, но и что-то напоминавшее платье, синее и ниспадающее, которое — что бы это ни значило — разрушило их странный утренний ритуал навсегда.
— Вы правы, — смиренно произнес Курт. — Это шанс всей моей жизни.
Кто-то или что-то закопошилось внизу, в оставленной Вильхельмом комнате. Полоска холодного солнца закрутила водоворотом пыль вокруг незаправленной постели, и кровать слегка поскрипывала на собрании сочинений Хёрупа, которые Вильхельм украл у министра иностранных дел, когда они жили в Студиергордене1, в те далекие времена, когда никто из них и не мечтал достичь вершин власти, на которых они теперь оказались. Тяжелые шторы источали зловоние, как будто пот пробивался сквозь дешевый парфюм. Возможно, ангел с лепнины на потолке морщил нос от запаха мочи из перевернутой напольной вазы — ею Вильхельм пользовался, когда, пьяный и отчаянный, не мог заставить себя выйти из комнаты. И возможно, в этот самый момент одна из маковых барышень выворачивалась из случайных объятий, пробужденная воспоминаниями о чем-то невероятном, что когда-то произошло с ней, — о чем-то, что стоило забыть, если хотелось жить дальше. Невозможно вообразить, что даже тень всего этого тянулась через сердце хозяйки в тот момент, когда она с улыбкой на губах, обнажавшей ее протезы с голубизной обезжиренного молока, протянула Курту Беглецу ручку и бумагу, чтобы ответить на объявление.
С уверенностью можно заявить: она не осознавала, что этим поступком подписывала смертный приговор единственной форме любви, которую когда-либо знала.
3
Лизе, совершенно отсутствующая, проснулась в слабом синем ночном свете от того, что Грета приподнялась с прямой спиной в своей кровати, как в саркофаге; сухие горящие глаза пристально смотрели на Лизе.
— Я боюсь сойти с ума, — произнесла она.
— Для этого у тебя нет никаких причин. — Лизе успокоила ее. — Просто слабые нервы.
Охваченная жизнерадостностью и физическим благополучием, она проскользнула под кожу Грете и умелой рукой отправила замысловатые откровенные мысли обратно на дно ее кристально-чистого внутреннего мира. Крепкое и красивое тело Греты осторожно опустилось и откинулось на подушку, и голосом обыкновенной домохозяйки она произнесла:
— Лизе, включи свет, выкурим по одной.
Тем самым она помогала Лизе отсутствовать, сама об этом не подозревая. Этому ее научили многочисленные недели совместного житья. Она никогда не оставляла Лизе выбора: решала за нее, руководила и управляла любым ее движением. Сейчас она решила, что Лизе не стоит спать, а нужно покурить. Они лежали, приподнявшись на локтях, при свете ночника и приглушенно беседовали, и их совсем не смущало, что снаружи кто-то кричал. Это всего-навсего новенькая, которая пока просто не разобралась, что к чему. По правилам курить в постели запрещалось, как и зажигать свет ночью, но соблюдение этого предписания никого особо не интересовало. Напротив, если долгое время проявлять признаки ненормального поведения, вас исключат из закрытого отделения для душевнобольных женщин. Каждый согласится со мной, что кричать посреди ночи, бегать голышом по длинному коридору или, что хуже всего, бить цветочные горшки, которыми кухарка фру Водсков, истинная управляющая отделения, украшала узкие подоконники, — всё это ненормально. Такой дерзости не было никаких извинений даже для новеньких, и главному врачу во время его поспешных еженедельных визитов больше не приходило в голову искать оправдания в защиту провинившейся. И в те немногие разы, когда он всё-таки пытался это сделать, фру Водсков всё равно превращала жизнь самонадеянных пациенток в ад, еще худший, чем снаружи, о котором ты, мой любимый, знаешь не понаслышке. Тем болванам, что до сих пор верят, будто миром руководит разум, могло бы, естественно, показаться, что здесь выписывают больных и держат здоровых, но Лизе и Грета вложили всю свою хрупкую безопасность в это кроткое, установленное законом безумие, что и было их самым ярым желанием, — остаться здесь.
— Завтра придет главврач, — сказала Грета, — черт бы его побрал!