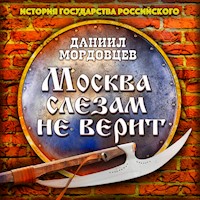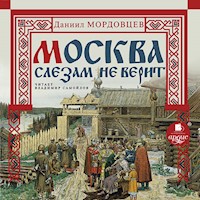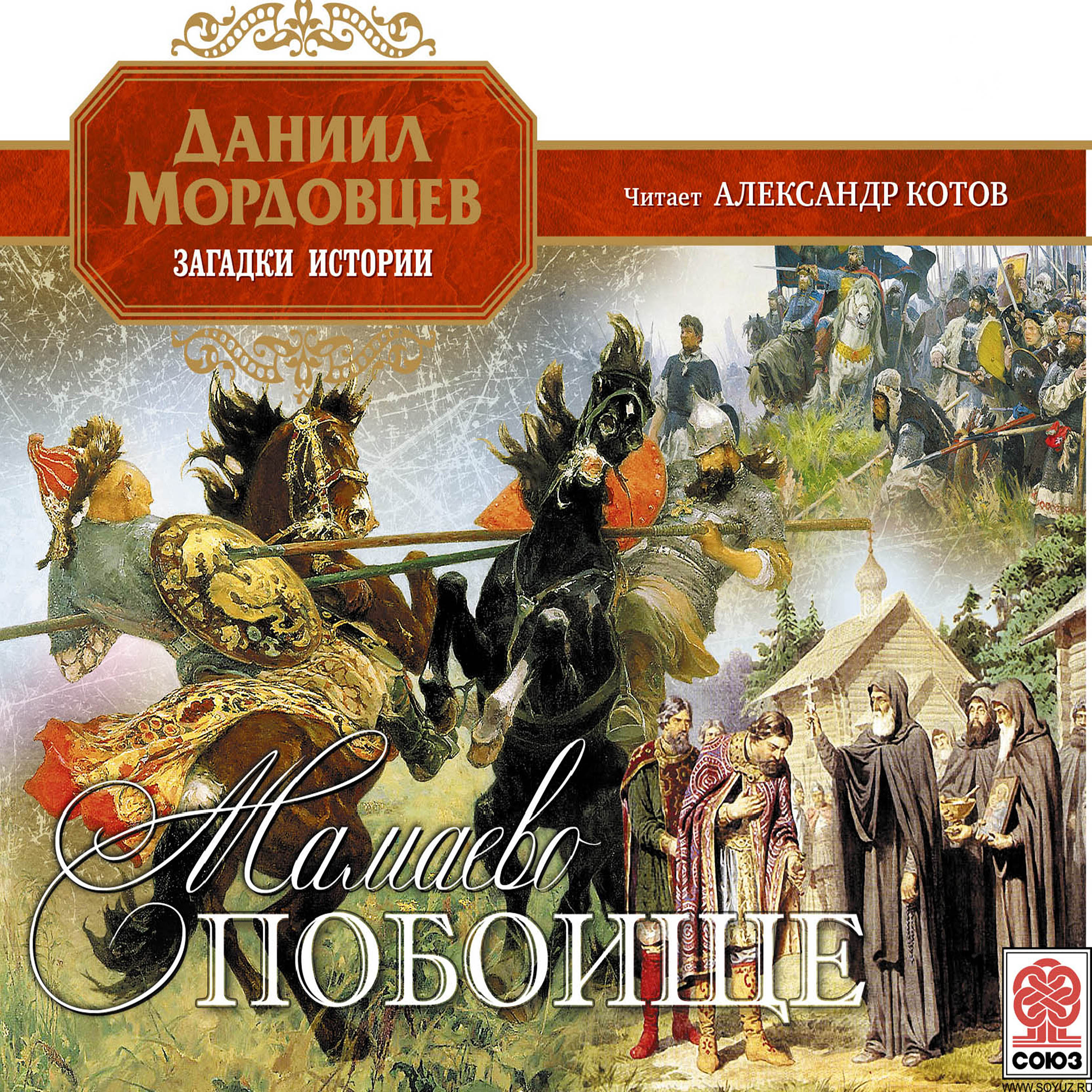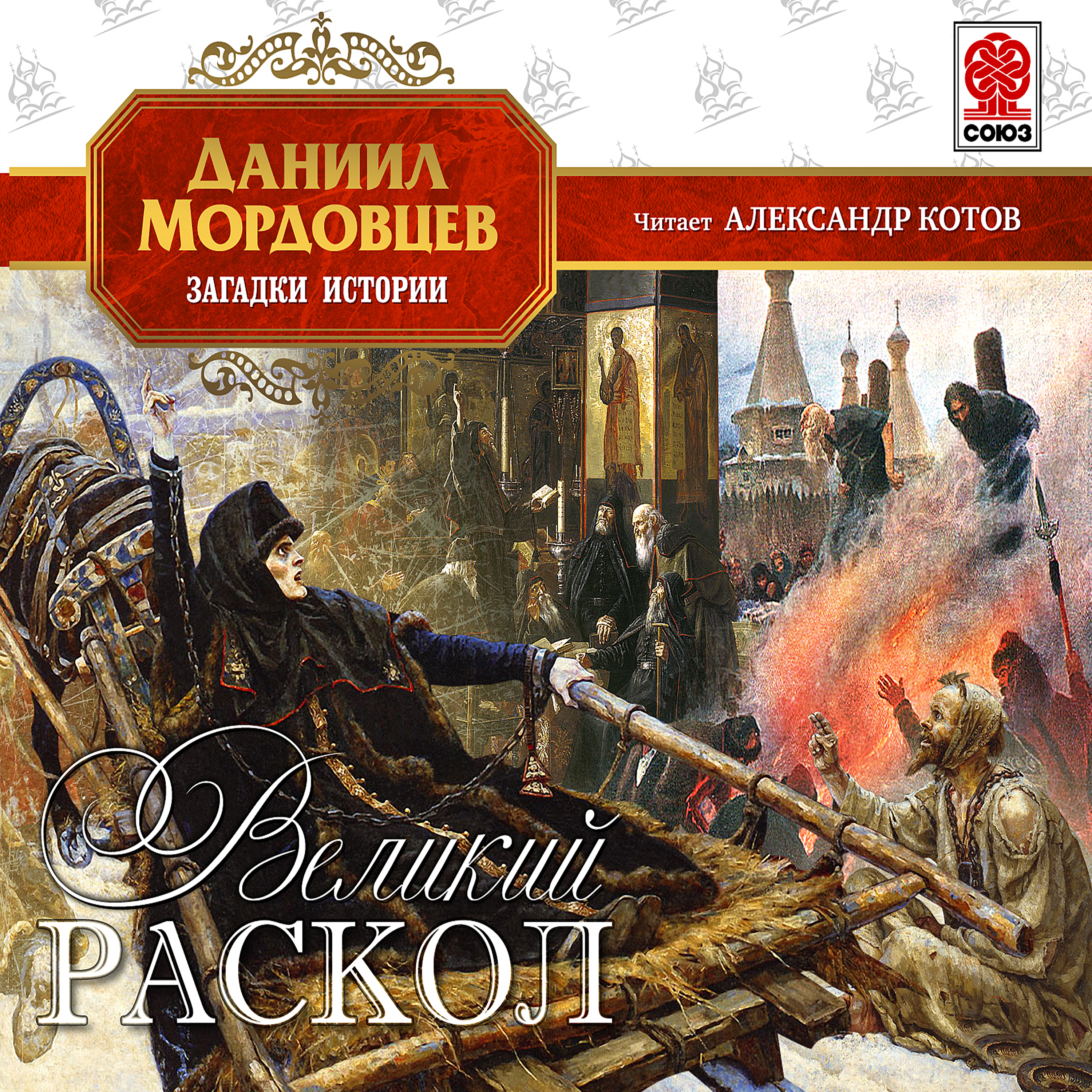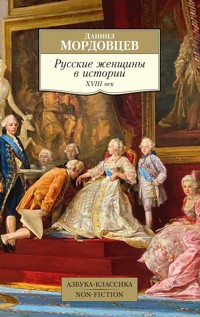
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Женщина, как чувствительный барометр, отражает состояние общественной атмосферы, характер и направление исторической эпохи, полагал Даниил Лукич Мордовцев — беллетрист, публицист, историк, один из популярнейших во второй половине XIX — начале XX века авторов исторической прозы и научно-популярных монографий. В числе последних особое место занимает сборник очерков «Русские исторические женщины». Переработав множество источников — свидетельства очевидцев и историков, дневниковые записи, частную переписку, — автор с присущим ему литературным мастерством создает чрезвычайно увлекательный и живой текст, обаяние и занимательность которого и теперь вполне объясняют грандиозную популярность сочинений Мордовцева у читателей его времени, прерванную лишь приходом новой власти и главенством нового ракурса изучения истории. В настоящее издание вошли очерки о женщинах, оставивших след в истории России XVIII века.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
16+
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.
Мордовцев Д.
Русские женщины в истории. XVIII век / Даниил Мордовцев. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Азбука-классика. Non-Fiction).
ISBN 978-5-389-29440-0
Женщина, как чувствительный барометр, отражает состояние общественной атмосферы, характер и направление исторической эпохи, полагал Даниил Лукич Мордовцев — беллетрист, публицист, историк, один из популярнейших во второй половине XIX — начале XX века авторов исторической прозы и научно-популярных монографий. В числе последних особое место занимает сборник очерков «Русские исторические женщины». Переработав множество источников — свидетельства очевидцев и историков, дневниковые записи, частную переписку, — автор с присущим ему литературным мастерством создает чрезвычайно увлекательный и живой текст, обаяние и занимательность которого и теперь вполне объясняют грандиозную популярность сочинений Мордовцева у читателей его времени, прерванную лишь приходом новой власти и главенством нового ракурса изучения истории.
В настоящее издание вошли очерки о женщинах, оставивших след в истории России XVIII века.
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025Издательство Азбука®
Русские женщины первой половины XVIII века
Анне Никаноровне Мордовцевой,
Вере Даниловне Мордовцевой,
Наталье Иосифовне Первольф
с любовью посвящает
муж, отец и дедушка — автор
I. Анна Монс (Баронесса Анна Ивановна фон Кейзерлинг, урожденная Монс)
Число русских исторических женщин допетровской Руси было так невелико, что в течение долгих восьми столетий, от Рюрика и до Петра, русская земля выставила на страницы истории только несколько имен женщин, бледные и неясные облики которых или освещались чужим, заимствованным от других исторических лиц светом, или же проходили перед нами как исторические тени, безлично, почти безо́бразно, без ясных очертаний.
Последние из них, как царевна Софья Алексеевна или Матрена Кочубей, сошли в могилу с тяжелым сознанием, что время их отошло: одна жаловалась, что горько теперь им стало жить, когда волна новой жизни нахлынула на них и захлестнула их, еще полных энергии, но боровшихся против девятого вала эпохи, говоря образным языком народа; другая не могла не тосковать, видя гибель всего, что она любила, и замену иными порядками тех, к которым она привыкла в своей поэтической Украине.
Отходящих женщин вытесняли собою другие, более современные, более молодые, и, заняв их места, затирали даже след своих предшественниц в памяти людей, не имея только силы окончательно затереть след их в истории.
Такие личности, как царевна Софья Алексеевна или царица Авдотья Федоровна Лопухина, с одной стороны, в Великой России вытесняются более молодыми женскими силами, как «вывезенная из немцев Анна Монсова», Матрена Балкша, Марта Скавронская и целая фаланга женщин русских и обрусевших, с другой — в Малой России — у гетманской булавы вместо несчастной и поэтической украинки Матрены, возлюбленной Мазепы, появляются другие, более современные, хотя менее поэтические украинки, как гетманша Настасья Марковна Скоропадская, просящая у русской царицы для себя маетностей — «несколько изобильных деревень и угодий», или «дочка» этой гетманши, нежинская полковница Толстая, вышедшая замуж за великорусского вельможу и свою украинскую фамилию променявшая на московскую.
С начала XVIII века петровские порядки и петровские женщины вступают в свои права и всецело оттесняют собою и отжившие свой век допетровские порядки, и отживших свою скромную долю допетровских женщин.
Вместо княгинь, княжон, боярынь, боярышень, цариц, царевен, великих княгинь, а чаще инокинь и стариц являются баронессы, графини, генеральши, генеральские дочери, фрейлины и так далее.
Одной из первых между этими новыми русскими женщинами, так сказать заметавшими собою след допетровской русской женщины, является — по времени — баронесса Анна Ивановна фон Кейзерлинг, русская немка из московской немецкой слободы, урожденная девица Монс.
Сама по себе это была личность далеко не крупная и даже далеко не симпатичная, так что не ее именем желательно было бы украсить первую страницу истории русских женщин или список исторических женщин в России, а одним из имен более симпатичных и более высоких, которые могла бы выставить русская земля за последние полтора столетия и с которыми мы встретимся далее в наших очерках; но мы не имеем права обходить ни одного имени, более или менее повлиявшего, хотя бы даже отрицательно, на ход наших исторических судеб, если бы даже влияние это было и не личное, не непосредственное, а рефлективное, через другие исторические личности, как именно и выразилось отрицательное влияние на поступательный ход русской общественной жизни баронессы фон Кейзерлинг: хронологически она первая наступает своей ногой на стирающийся уже след русской женщины отживавшего старого цикла — она же по праву первой явится и в собрании русских женщин нового исторического цикла.
Баронесса фон Кейзерлинг, более известная по своему девическому имени как Анна Монс, была дочь Иоанна Монса, уроженца города Миндена, что на Везере, по свидетельству одних писателей — виноторговца и бочарных дел мастера, по другим — мастера золотых дел. Монс с женой Модестой выехал в Россию в половине XVII столетия и поселился в Москве, в немецкой слободе, известной тогда под именем «Кукуй-городка». Монсы имели трех сыновей, из которых наиболее известен своей судьбой и трагической смертью младший, Виллим, и двух дочерей — Модесту, или Матрену, как ее называли русские, и Анну.
Обе дочери, как и все семейство Монсов, отличались замечательной красотой.
Лефорт, будущий сподвижник царя-преобразователя, был близко знаком с семейством Монсов, а с Анной, по свидетельству тогдашнего австрийского посла Гвариента, этот умный женевец находился в самой интимной дружбе, какая только возможна между мужчиной и женщиной.
«Впоследствии, — говорит другой современный писатель и воспитатель царевича Алексея Петровича, Гюйссен, — когда при стрелецком восстании Лефорт выказал свою приверженность царю и был за то награжден высокими государственными званиями, тогда он из похвального великодушия остался признательным к Монсам, возвышал их, вообще старался сделать эту фамилию соучастницей своего счастья».
Лефорт, всегда умевший среди серьезных занятий доставить молодому царю и соответственные развлечения, свел своего впечатлительного питомца с московскими немцами, и в особенности с красивою семьею Монсов.
Петру понравились обе девушки-немочки; но красавица Анна произвела на него более глубокое впечатление, чем старшая сестра, — и впечатление это было едва ли не роковой минутой для всей последующей жизни царя-преобразователя.
Знакомство его с Анной Монс относят к 1692 году. Одновременно с этим замечают уже и охлаждение царя к его первой супруге, Авдотье Федоровне Лопухиной, которая во время его беспрестанных мыканий из конца в конец русской земли и во время «потешных» экспедиций по Белому морю тоскует о своем «лапушке свет-Петрушеньке» и шлет ему исполненные глубокой скорби письма.
«Только я бедная, на свете бесчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье своем. Не презри, свет мой, моего прошения».
Но Петра больше тянет уже на немецкую слободу, в скромный домик Монсов, а не во дворец, где его ждет плачущая царица.
Следуют потом походы Петра под Азов; но и в разлуке он не забывает красавицу немецкой слободы. Петр уезжает путешествовать по Европе и учиться западной цивилизации с топором и пилой в руке. И там, среди чудес Европы, он не забывает своей «Аннушки».
Между тем в России в отсутствие царя вспыхивает стрелецкий бунт.
Царь быстро возвращается домой, везя с собой страшную грозу и неслыханную кару для изменников. 25 августа 1698 года он явился в Москву, но даже и не заехал в тот день во дворец, а посетил только Анну Монс.
«Крайне удивительно, — писал австрийский посол Гвариент, — что царь, против всякого ожидания, после столь долговременного отсутствия еще одержим прежней страстью: он тотчас по приезде посетил немку Монс».
Напротив, в этом нет ничего удивительного: «великий работник» русской земли умел глубоко любить, так глубоко, как глубоко любил он все, что охватывало его страстную природу; полюбив раз, он уже не умел разлюбить, подобно натурам мелким, непостоянным; Петр глубоко любил только двух женщин: Анну Монс, а потом Марту Скавронскую — императрицу Екатерину Алексеевну, — и любил их до могилы. Не правы те историки, которые приписывают «царю-работнику» какую-то недостойную его ветреность.
Нам известно, что́ потом было, когда царь исследовал стрелецкую измену: представителей старого русского ратного дела, стрельцов, постигли ужасные казни; царица Евдокия заточена в монастырь; царевна Софья, одна из наиболее цельных и неподатливых женщин-личностей допетровского времени, тоже исчезла в монастыре под рясой монахини и под скромным именем сестры Сусанны.
С той поры Петр весь отдается своей привязанности к молодой представительнице нового типа русской женщины, к Аннушке Монцовой, и, по свидетельству современников, преимущественно иностранцев, девушка стоила этой нежной привязанности великого человека. Все иностранцы отзываются о ней с большими похвалами, и, без сомнения, в ней было что-либо достойное любви такого человека-великана, каков был Петр.
«Особа эта, — говорит один из современников, — служила образцом женских совершенств: с необыкновенной красотой она соединяла самый пленительный характер; была чувствительна, но не прикидывалась страдалицей; имела самый обворожительный нрав, не возмущаемый капризами; не знала кокетства; пленяла мужчин, сама того не желая; была умна и в высшей степени добросердечна».
Они же уверяют, что девица Монс была так безупречна в своих дружеских отношениях к Петру и так целомудренно-сдержанна, что вследствие этой холодности сама лишила себя трона, который она, без сомнения, разделила бы с царем-преобразователем, если бы не оттолкнула его от себя предпочтением ему другой личности, которую она действительно полюбила: царя же, говорят, она не любила, а только умела ценить его любовь к ней, отвечала ему теплой дружбой и умела пользоваться добрым чувством всесильного властелина русской земли.
Между тем русская земля, в особенности же Москва, косо смотревшая на преобразования царя, на немецкий покрой платья и на внимание, оказываемое им, в лице немцев, всей цивилизованной Европе, совершенно иначе смотрела на эти отношения царя к молодой кукуйской красавице.
— Видишь, — говорил один москвич другому, — какое бусурманское житье в Москве стало: волосы накладные завели, для государя вывезли из немецкой земли немку Монсову, и живет она в лефортовых палатах, а по воротам на Москве с русского платья берут пошлину от той же немки.
— Относил я венгерскую шубу к иноземке, к девице Анне Монсовой, — говорил немец, портной Фланк, аптекарше Якимовой, — и видел в спальне ее кровать, а занавески на ней золотые.
— Это не ту кровать ты видел, — замечала аптекарша, — а вот есть другая, в другой спальне, в которой бывает государь: здесь-то он и опочивает...
Тут Якимова, как значится в современном следственном деле, начала говорить «неудобь сказываемые» слова.
— Какой он государь, — говорил также о Петре колодник Ванька Борлют, — какой он государь! Бусурман! В среду и пятницу ест мясо и лягушек. Царицу свою сослал в ссылку и живет с иноземкой Анной Монсовой.
Весной 1699 года Петр вновь отправился в поход под Азов, и, несмотря на свои ратные и государственные труды и заботы, успевал переписываться с своей любимицей, которая так же отвечала ему охотно своими скромными, почтительными и, видимо, сдержанными посланиями, в коих большей частью говорится то о присылке «милостивому государю» апельсинов и «цитронов», чтоб он их «кушал на здравие», то о высылке «цедреоли»; но тут же девушка заговаривает и об государственных делах — она уже является ходатайницею за других особ, за лиц из высшего государственного круга.
В высокой степени любопытны эти письма, характеризующие и время, и женщин того времени, а в особенности женщину, которая могла бы, если бы пожелала, разделять трон царя-преобразователя.
«Милостивейшему государю Петру Алексеевичу.
Подай Господь Бог тебе милостивому государю многолетнего здравия и счастливого пребывания.
Челом бью милостивому государю за премногую милость твою, что пожаловал обрадовать и дать милостиво ведать о своем многолетнем здравии чрез милостивое твое писание, об котором я всем сердцем обрадовалась, и молю Господа Бога вседневно о здравии твоем и продолжении веку твоего государева, и дай Бог, чтобы нам вскоре видать милостивое пришествие твое, а что изволишь писать об цедреоли, и я ожидаю в скором часе, и как скоро привезут, то не замешкав пошлю, и если бы у меня убогой крылья были, и я бы тебе милостивому государю сама принесла.
Прошу у тебя милостивого государя об вдове Петра Салтыкова, что дело у них с Лобановым, если угодно и воля твоя пожаловать меня убогую, чтобы дело то перенес из семеновского в другой приказ, а буде тебе государю не нравно, и милости прошу чтоб до твоего государского пришествия людей той вдовы Салтыковой не трогать и на правеже не бить. Мне, государь, от ней упокою нет. Непрестанно присылает с великими слезами. Пожалуй, государь, не прогневайся, что об делах докучаю милости твоей.
Засим здравствуй, милостивой государь, на множество лет.
Sein getreue dinnerin bet in mein tod.
der 28 may1. A. M. M.».
На адресе этого письма написано: «An myn Heer grot commandeur Peter Alexewitz asoff»2.
В другом письме, посылая царю «четыре цитрона и четыре апельсина», чтоб государь «кушал на здоровье», девушка просит, чтоб он не забывал о ней.
«Милостивейшему государю Петру Алексеевичу.
Подай Господь Бог тебе милостивому государю многолетнего здравия и счастливое пришествие.
Прошу у тебя государя, дай милостиво ведать о своем государском многолетном здравии, чтоб мне бедной о таком великом здравии всем сердцем обрадоваться.
Посылаю я к тебе милостивому государю четыре цитрона и четыре апельсина, подай Господь бы тебе милостивому государю кушать на здоровье.
А о цедреоли не прогневайся государь, что не присылаю, во истинно по сю пору не бывала, и вельми об этом печалюся, что по сю пору не бывало.
Засим остаюсь раба твоя bet in mein tod.
Anno 1699 dem 8 iuni3. A. M. M.».
Посылает она наконец ящик давно ожидаемой «цедреоли» и вновь пишет:
«Милостивейший государь.
Подай Господь Бог тебе, милостивому государю, многолетнего и благополучного здравствования.
Послала я к тебе милостивейшему государю ящик с цедреоли двенадцать скляниц. Дай Боже тебе милостивому государю на здравие кушать, рада бы больше прислала, да не могла достать.
Ver bleib sein getreuste dinnerin bet in mein tod4. A. M.».
Петр отвечает своей любимице на ее письма, и девушка вновь шлет ему послание, все такое же сдержанное, полуофициальное:
«Милостивейшему государю.
Подай Господь Бог тебе милостивому государю многолетнее здравие и счастливое пребывание.
Челом бью милостивому государю за премногую милость твою, что пожаловал дать милостиво ведать о своем многолетном здравии чрез милостивое свое письмо, о котором всем сердцем обрадовалась, и молю Богу вседневно о продолжении веку твоего государева. Прошу у тебя милостивого государя, пожалуй прости вине моей, меня убогую рабу свою, что к милости твоей писала о деле Салтыковой вдовы, я о том опасна чтоб впредь какова гневу не было от тебя милостивого государя чтоб так дерзновенно делала.
Sein getreue dinneren bet in mein tod.
Dem 25 iuly5. A. M. M.».
Наконец девушка решается заговорить с своим повелителем и возлюбленным о делах более серьезных: она напоминает ему об обещании сделать ее помещицей — записать за ней из дворцовых сел волость.
«Благочестивый великий государь царь Петр Алексеевич, милостивно здравствуй, о чем государь и милости у тебя государя просила, и ты государь позволил приказал Федору Алексеевичу выписать из дворцовых сел волость и Федор Алексеевич по твоему государству указу выписав послал к тебе государю чрез почту, и о том твоего государева указу никакого не учинено. Умилостивися государь царь Петр Алексеевич для своего многолетнего здравия и для многолетнего здравия царевича Алексея Петровича свой государев милостивый указ учини.
Ich ver suche mein gnadigste herr und vader seyt mein gnadige bitt nit af urn Gottes widen posalu mene sein undergnadigste dienerrin bet in mein tod.
Dem 11 september6. A. M. M.».
Кроме государевых волостей, девушка получала от своего высокого друга и другие доказательства его любви к ней: так, Петр пожаловал ей с матерью ежегодный пенсион в 708 рублей, что при бережливости, даже скупости царя-преобразователя и при постоянной нужде его в деньгах, которых так много требовалось на постройку кораблей, на прорытие каналов, на возведение крепостей, на посылку молодых вельмож за границу и нескончаемые войны со шведами, представляло тогда солидную субсидию. Мало того, государь построил своей любимице огромный каменный палаццо, в самой немецкой слободе, недалеко от немецкой кирки, чтоб его возлюбленной ближе было ходить в церковь. Наконец, государь подарил ей свой портрет, осыпанный бриллиантами, ценностью в тысячу рублей — и это было тогда, когда молодой супруге царевича Алексея Петровича буквально было нечем кормиться, как мы увидим ниже.
Осыпанное милостями царя, семейство Монсов скоро стало злоупотреблять своим влиянием, в чем, по всем вероятностям, наиболее виновата была мать девушки, по-видимому очень корыстолюбивая старуха. Корыстолюбие, впрочем, замечается и в характере самой девушки.
Монсы начали вмешиваться в государственные дела, ходатайствовали по присутственным местам за себя и за других — и в виду дружбы к ним государя все государственные люди спешили сделать им все угодное. По свидетельству Гюйссена, воспитателя царевича Алексея, в присутственных местах даже принято было за правило, что если madame или mademoiselle Montzen имели какое-либо дело или тяжбу, будь это их собственное дело или их друзей, то об этом делались особенные reflexions salva justitia7, и Монсы так широко воспользовались этим снисхождением царя, что стали мешаться в дела нашей внешней торговли, ходатайствовать за иноземных купцов, набирать себе через это большие деньги и ставили себя в совершенно исключительное положение.
Трудно винить в этом случае девушку: она, надо полагать, пользовалась своим влиянием в подобных нечистых делах совершенно невинно, руководимая своей корыстной матерью.
Вот один из примеров влияния девушки на царя.
В Москве состоял на службе артиллерийский полковник, иноземец Краге. Однажды пьяный гайдук Краге в присутствии господина избил и изуродовал минера Серьера. Гайдука за это наказали кнутом, но Серьер не удовольствовался этим наказанием и по выздоровлении от увечья подал счет на Краге — во что ему обошлось леченье. Серьер в ходатайстве своем прибегнул к помощи frauen Monsin и ее дочери; но австрийский посол Гвариент два раза успел защитить Краге, и Серьеру было отказано в его претензии. Тогда Серьер, воспользовавшись случайной ссорой Краге с девицей Монс, вызвался быть ходатаем по делам семейства Монсов и заведовать их хозяйством. За это девушка настойчиво ходатайствовала за него у царя, и Петр, «вопреки двукратному отказу в претензии минеру, приговорил Краге к штрафу в 560 рублей» — огромный по тому времени штраф!
Но девушка все-таки неискренно любила царя: она действительно была только его «верная» и «убогая раба», его «getreuste dinnerin» — служительница; но девическое сердце ее избрало другого, хотя царь и не знал долго об измене своей любимицы, потому что продолжал осыпать ее щедрой рукой, подарив уже в 1703 году своей «Аннушке» еще одно поместье — село Дубино в Козельском уезде — 295 крестьянских дворов со всеми угодьями.
Девушка полюбила саксонского посланника Кенигсека.
В 1702 году Кенигсек, вероятно прельщенный выгодами службы в России и, может быть, побуждаемый любовью к красавице Монс, вступил на русскую службу. Он сопровождал царя в походах, был в числе его иноземных любимцев и учителей русского народа.
Но трагическая кончина Кенигсека открыла Петру глаза: он узнал, что его Аннушка любила покойника.
Вот как открылась тайна девицы Монс:
«В один роковой день (так или почти так говорит об этом происшествии леди Рондо, жена английского резидента, в письме к одному своему другу в Англию в 1730 году) государь возвращался с осмотра строившейся крепости; при переходе через подъемный мост польский министр (это и есть Кенигсек), сопровождавший вместе с другими государя, упал в воду, и, несмотря на все усилия спасавших его, утонул. Когда труп вытащили из воды, государь вынул из кармана утопленника бумаги, сначала велел их запечатать, а потом, при разборе бумаг покойника, не без удивления увидел между ними портрет своей любимицы; затем нашел несколько самых страстных писем ее к покойнику. Пылая гневом и ревностью, государь вбежал в комнату к моей рассказчице (к знакомой леди Рондо) и приказал привести Анну Монс. Когда она вошла, Петр запер дверь и грозно спросил: „Для чего ты писала к поляку?“ Та заперлась. Петр показал письма, портрет и объявил о смерти своего противника. Услышав роковую весть, красавица залилась слезами и впала в непритворное молчание, между тем как царь осыпал ее самыми резкими укорами и пришел в такой гнев, что можно было подумать, что он убьет изменницу на месте. Когда первый пыл гнева прошел, слезы и красота Монс победили государя, и он сам заплакал. Тогда, простив неверную, он со слезами сказал: „Забываю все. Я не могу тебя ненавидеть — виню собственную доверчивость. Продолжать мою связь — значит унижать себя. Прочь! Я сумею примирить страсть с рассудком. Ты ни в чем не будешь нуждаться, но я с этих пор не хочу тебя видеть“. Петр сдержал слово: Анна Монс выдана была замуж за одного служащего, получившего хорошее место в отдаленной провинции; монарх заботился об их семейном счастье до конца жизни и оказывал им постоянно свою любовь».
По всей вероятности, рассказ этот изукрашен романтическими подробностями; но основа его верна: леди Рондо писала это только через пятнадцать лет после смерти Анны Монс.
Знаменитый Миллер подтверждает этот рассказ, хотя передает его как вариант на повествование леди Рондо.
Миллер так рассказывает этот трагический случай:
«При осаде Шлиссельбурга Петр узнал, что обворожительная domicella8 Mons ему не верна и что она вела переписку с саксонским посланником Кенигсеком. Кенигсек провожал государя в этом походе и однажды поздно вечером, проходя по узенькому мостику, переброшенному через небольшой ручей, оступился и утонул. Первая забота государя при известии о смерти Кенигсека была осмотреть бумаги, бывшие в карманах покойника; в них государь надеялся найти известия относительно союза его с королем Августом и вместо них нашел нежные письма своей фаворитки. Domicella Mons слишком ясно выражала свою преступную любовь к Кенигсеку — сомнения быть не могло. О портрете тайная история умалчивает. После этого случая государь уже не хотел знать неверную фаворитку, и она таким образом лишилась большого счастия, если бы сумела превозмочь неосторожную наклонность к Кенигсеку».
Сохранилось о трагической смерти соперника Петра собственноручное письмо государя. Надо полагать, что письмо писано было им Ф. Апраксину в тот самый момент, когда труп Кенигсека был только вытащен из воды, а бумаги еще не были распечатаны или Петр не читал их, пока они не просохли.
«Здесь все изрядно милостью Божиею, — писал он из Шлиссельбурга 15 апреля 1703 года, — только зело несчастливый случай учинился за грехи мои: первый — доктор Лейм, а потом Кенисен, который принял уже службу нашу, и Петелин утонули внезапно, — и так вместо радости — печаль».
Но более глубокая печаль, только уже не о Кенигсеке, а о себе самом, должна была посетить государя, когда он разобрал бумаги утопленника и нашел в них то, чего не ожидал.
В первые минуты гнева Петр приказал арестовать свою любимицу и ее сестру Матрену в собственном доме Монсов. Обе женщины отданы были под строгий надзор князя-кесаря Ромодановского, и им запрещено было посещать даже кирку.
Три года томилась неосторожная девушка в своем печальном заточении. Томилась с ней и сестра ее, и равно сидели под арестом и другие лица, человек до тридцати, которые так или иначе прикосновенны были «к делу Монцовой».
Тяжело было девушке с такой высоты упасть так низко в глазах всей Москвы: тяжкая опала всегда была тяжка для подпадавших под эту опалу, под эту «грозную сиверку».
Сидя в заточении, девушка, как и древнерусские, да и почти все женщины на свете, стала прибегать к гаданиям по разным «тетрадкам», конечно мистическим, к ворожбе, к привораживанью, к чародейным перстням, лишь бы отвратить от себя «грозную сиверку» и опять приворотить к себе сердце государя. «Стали они, Монсы, — говорит современник, — пользоваться запрещенными знаниями и прибегали к советам разных женщин, каким бы способом сохранить к их семейству милости царского величества».
Но все было напрасно: колдовство оказалось бессильным против Петровой «сиверки».
«Хотя за подобные поступки, — писал в 1706 году Гюйссен, — за колдовство и ворожбу в других государствах было бы определено жесточайшее наказание, однако его царское величество, по особенному милосердию, хотел, чтоб процесс о Монсах был совершенно прекращен, и только ех capite ingratitudinis9 Монсов отобраны деревни, и каменный палаццо отошел впоследствии под анатомический театр. Драгоценности же и движимое имущество, очень значительное, были оставлены им, за исключением одного только портрета, украшенного бриллиантами».
Но девушка, несмотря на смерть своего прежнего возлюбленного, несмотря на царскую опалу, имела человека, который тоже любил ее, — это прусский посланник барон фон Кейзерлинг. Видно, слишком много было очарования в этой молодой женщине и, без сомнения, было немало и нравственных достоинств, если так велико оказывалось ее обаяние даже тогда, когда всем известны были ее прежние отношения к царю, и ее тайная любовь к покойному Кенигсеку, и, наконец, упавший на нее позор царской «сиверки».
В 1706 году Головин доносил царю, что посланник фон Кейзерлинг челом бьет, «чтоб Анне Монсовой и сестре ее Балкше (Матрене, бывшей уже замужем за Балком) дано было позволение ездить в кирху, и Балкову жену, буде можно, отпустить к мужу: сие просит он для того, чтобы все причитают несчастие их ему, посланнику», то есть любви и дружбе его к Анне Монс.
— О Монше и сестре ее Балкше, — отвечал царь, — велел я писать Шафирову, чтоб дать ей позволение в кирху ездить, и то извольте исполнить.
Анна Монс и сестра ее Матрена Балк были наконец освобождены.
Но в казематах еще сидели прикосновенные к «делу Монцовой».
— С тридцать человек сидят у меня колодников по делу Монцовой: что мне об них укажешь? — спрашивал в 1707 году князь-кесарь Ромодановский царя.
— Которые сидят у вас по делу Монцовой колодники, и тем решение учинить с общего совету с бояры по их винам смотря, чего они будут достойны, — отвечал Петр.
Но прежними милостями царя девушка не могла уже пользоваться. «Монсы, — писал Гюйссен, — живут свободно, но уже не могут рассчитывать и не имеют на то права, чтоб оказанные им сначала милости остались при них на вечные времена».
Да царю уже было теперь не до «Аннушки»: с 1705 года его посетила уже едва ли не последняя и самая глубокая привязанность, какую только мог иметь этот далеко не столь непостоянный в своих отношениях к женщинам царь-работник, каким его изображают новейшие его порицатели: Петр любил уже впоследствии знаменитую молодую пленницу Марту Скавронскую, или, как потом он называл ее, «Катерину Василефъскую», сделавшуюся потом императрицей-государыней Екатериной Алексеевной Первой. Может быть также, что в этой привязанности он искал забвения той, которая ему изменила и в которой он так глубоко обманулся.
Анна Монс, с своей стороны, считалась уже в это время невестой прусского посланника Кейзерлинга, хотя и это обстоятельство, по-видимому, оставалось тайной для царя, который едва ли мог окончательно вытеснить из сердца свою первую серьезную привязанность к той, которую он действительно любил и которой верил более десяти лет: в самом деле, трудно обвинить в непостоянстве человека, который любил одну женщину десять лет, имея притом столько соблазнов полюбить любую красавицу своего двора, всего своего государства и любую женщину во всей пространной Европе, которую Петр исколесил и как царь, и как простой корабельный плотник.
Этого-то постоянства и честного чувства к женщине и боялся молодой фаворит царя, знаменитый «Алексашка», впоследствии светлейший князь Александр Данилович Меншиков, который строил все свое благополучие на той вероятной мысли, что царь так же глубоко может привязаться и к находившейся у Меншикова пленнице Марте Скавронской, как глубоко был он привязан к «Монше», или к его любимой «Аннушке Монцовой».
Понятно, почему в 1707 году Кейзерлинг крупно поссорился с Меншиковым из-за своей невесты, о которой он хлопотал у царя, а «Данилыч» ему препятствовал в этом, стараясь поддержать гнев царя к своей прежней любовнице. Понятно также, почему один из современников этого события, Нейбауер, писал в виде угрозы, что «о поступке царя с девицей Монс, с своей возлюбленной, когда к ней несколько стал близок посланник Кейзерлинг, будет известно из ежедневных газет» — грозил, значит, гласностью.
Как бы то ни было, но царь, даже познакомившись с Мартой Скавронской, все еще не мог выгнать из своего упрямого сердца прежнюю привязанность — свою Аннушку, между тем как Аннушка так же упрямо и еще упрямее после своего заточения продолжала быть холодна к царю.
«Меншиков и Екатерина рисковали потерять все, — говорит Гельбиг, — если бы красавица уступила. Меншиков употреблял весь свой ум, чтоб воспрепятствовать намерениям Петра. Ему, вероятно, пришлось бы отступить пред пылкой страстью своего властителя, если б самая твердость девушки не помогла желаниям Меншикова и Екатерины. Если Екатерина при посредственной любезности сумела возвыситься до звания русской императрицы, то более чем вероятно, что прекрасная Монс с своими превосходными качествами гораздо бы скорее достигла этой великой цели. Но она предпочла судьбу и возлюбленного Кейзерлинга. И первая, и последний очень и очень превосходили происхождение и ожидание девушки, но все же были к ней ближе, чем престол и царь: она тайно обручилась с прусским посланником Кейзерлингом. Петр узнал об этом, когда только что собирался отправиться куда-то на бал; узнал из перехваченного письма, в котором Анна жаловалась на неотвязчивость монарха. Это несчастное открытие превратило любовь его в гнев. Государь отправился на бал, встретил красавицу и представил ей чувствительное доказательство своего неудовольствия. Больно видеть, — продолжает Гельбиг, — что этот великий человек, которому охотно простят какую-нибудь опрометчивость, имел низость потребовать подаренный дом обратно. Чтобы не подвергнуть ее новым неприятностям, Кейзерлинг решился тотчас же на ней жениться, но в это самое время впал в жестокую болезнь, которая и свела его в могилу; впрочем, он, как честный человек, исполнил свое обещание: уже будучи на смертном одре, он обвенчался с прекрасной Монс, после чего вскоре и умер. Вдова его осталась в Москве, где скончался ее супруг. Она проводила свои дни вдали от двора, с достоинством, в тиши домашней жизни, и погруженная в воспоминания о своих последних несчастных обстоятельствах, и умерла там же».
Гельбиг несколько изукрасил свой рассказ вопреки истине. Анна Монс вышла замуж за Кейзерлинга 18 июня 1711 года, а Кейзерлинг скончался 11 декабря в Стольпе, по дороге в Берлин.
Молодая красавица, теперь уже вдова Кейзерлинг, осталась в Москве, в немецкой слободе, где и жила в деревянном домике вместе с матерью. Старуха-мать лет пятнадцать страдала хронической болезнью и почти не вставала с постели. Больна была и Анна Ивановна: здоровье ее было сильно потрясено превратностями жизни, и молодая женщина таяла как свечка — харкала кровью и по нескольку месяцев лежала в постели.
Как на прекрасную черту семейства Монсов следует указать на то, что все члены ее были связаны самой тесной дружбой.
Едва умер муж злополучной любимицы Петра, как для нее настали новые неприятности — житейские, экономические дрязги, которые так тяжело отзываются на характере женщины и нередко извращают ее хорошие инстинкты, делают женщину мелочной и иногда окончательно губят в ней все хорошее.
Такие житейские дрязги окончательно подкосили и без того рухнувшее здоровье исторической «Аннушки»: брат ее умершего мужа заявил претензию на все движимые и недвижимые имения покойника, находившиеся в Курляндии и Пруссии.
До нас дошли письма Анны Кейзерлинг от этого времени к брату Виллиму, к тому Виллиму, прекрасная голова которого была впоследствии, по приказанию царя, отрублена и сохранялась в академическом музее рядом с такою же прекрасною головою фрейлины Гамильтон, тоже отрубленной по приказанию царя. Но об этом после.
Письма такой личности, как первая и едва ли не последняя серьезная любовь Петра Великого, как бы ни было чуждо исторической важности содержание этих писем, не могут не иметь исторического значения для России, для той России, которая до сих пор чувствует на себе следы рабочих рук и всенивелируюшей палицы царя-преобразователя.
«Любезный, от всего сердца любимый братец! — пишет вдова Кейзерлинг через два месяца после смерти мужа брату своему Виллиму, который в качестве „генеральс-адъютанта“ исполнял всевозможные поручения Петра за границей. — Желаю, чтобы мое печальное письмо застало тебя в добром здоровье; что до меня с матушкой, то мы то хвораем, то здоровы; нет конца моей печали на этом свете; не знаю, чем и утешиться».
Она просит брата привезти ей вещи и деньги ее мужа, «потому что, — говорит она, — лучше, когда они у меня, чем у чужих людей».
В одном письме Анна спрашивает брата, что ей делать с портретом царя, который был у нее. Она велит спросить у своего адвоката, Лаусона, «отдавать ли этот портрет царя деверю, прежде чем деверь пришлет вещи покойника из Курляндии».
Много, без сомнения, напоминал ей этот портрет царя, осыпанный дорогими камнями...
Явилось еще горе, правда ничтожное, но для больной женщины тяжелое и притом оскорбительное. Камердинер ее покойного мужа, Штраленберг, стал распускать за границей обидные для Анны Ивановны слухи, что будто бы оставленная им в Москве жена страдает от грубого обращения с ней Анны.
«Прошу тебя, любезный брат, — писала Виллиму по этому обстоятельству Анна, — не верь этому лгуну Штраленбергу: он беспрестанно делает мне новые неприятности, так что я умираю с досады... Передай ему, что его жена горько плакала, услыхав о том, как бесстыдно лжет ее муж, будто бы я дурно с ней обращаюсь. Напротив, призываю Бога свидетелем, — ей хорошо у меня: когда она была больна, я пригласила доктора на свой счет, избавляя ее от всяких расходов, подарила ей черное платье».
Через две недели она спрашивает брата: «Напиши мне, пожалуйста, привезут ли тело моего мужа в Курляндию? Вели, чтоб гроб обили красным бархатом и золотым галуном».
Затем снова вспоминает о портрете царя:
«Ради Бога, — пишет она, — побереги шкатулки с бумагами, чтоб ничего не потерялось, а старшему моему зятю скажи, чтоб он только прислал мне портрет его величества с драгоценными камнями».
Порицатели этой женщины говорят, что она думала о драгоценных камнях, собственно, а не о портрете того, который так много ее любил.
Летом 1712 года Анна с матерью ездили на несколько недель за границу, где они гостили у старшей сестры Анны, Матрены Ивановны Балк, муж которой по делам царя находился тогда в городе Эльбинге.
Недолго, однако, оставалось жить бывшей любимице Петра: чахотка, видимо, съедала ее.
Но и в эти последние годы своей жизни (1713–1714) Анна успела внушить к себе если не страсть, то желание иметь ее своей женой пленному шведскому капитану Миллеру. Одни говорят, что они уже были помолвлены, другие — что Миллер только старался вкрасться в доверие Анны и пользоваться от нее какими-либо подарками. Брат Анны уверял впоследствии, что Миллер «притворством вверился в дом к сестре моей и в болезни сестры моей взял, стакався с девкою шведкою, которая ходила в ключе у сестры моей, взял многие пожитки». Поэтому он и просил правительство отобрать эти вещи у Миллера: а вещи эти были — «камзол штофовой, золотом и серебром шитый, кувшинец да блюдо, что бороды бреют, серебряные» и другие «пожитки».
Анна, бывшая Монс, скончалась 30 сентября 1714 года на руках больной старухи-матери и пастора.
В числе драгоценных вещей, описанных после покойницы, между прочим, показаны: портрет царя, когда-то ее любившего, — «образ с разными с драгими каменьями, охвачен около, в тысячу рублей», «умершего господина фон Кейзерлинка персона в алмазах — семь сот рублей», нитка жемчугу для какой-то «сиротки»... Не тайное ли это дитя покойной красавицы?
«Как бы то ни было, но, проводив в могилу бренные останки той женщины, имя которой, благодаря любви Петра, попало в историю, скажем о ней окончательное мнение», — говорит один из новейших биографов Анны Монс и прямо утверждает, что видит в этой женщине «страшную эгоистку, немку сластолюбивую, чуть не развратную, с сердцем холодным, немку расчетливую до скупости, алчную до корысти, при всем том суеверную, лишенную всякого образования, даже малограмотную. Кроме пленительной красоты, в этой авантюристке не было, — говорит он, — никаких других достоинств. Поднятая из грязи разврата, она не сумела оценить любовь великого государя, не сумела оценить поступка, который тот сделал ради ее, предав жестокой участи свою законную супругу. Страстью к Анне Монс Петр показал, что и великие люди не изъяты человеческих слабостей, что страсть и им слепит очи, и им затемняет рассудок. Безвестная немка, женщина во всех отношениях недостойная, Анна Монс послужила причиной к совершению нескольких событий, в высшей степени важных в истории великого Петра: царица Авдотья Федоровна ссылается в заточение; наследник престола преждевременно лишается материнского надзора и вследствие этого затаивает в душе своей ненависть к отцу, гонителю матери; эта ненависть растет, заставляет Алексея окружать себя сторонниками, столько же неприязненными его отцу, начинается борьба малозаметная, в высшей степени страдательная со стороны царевича, но важная по ходу, которая, быть может, приняла бы более серьезные размеры, если бы не кончилась катастрофой 1718 года. С другой стороны, любовь к Анне Монс заставляет Петра обратить внимание на ее семейство, и в нем, между прочим, и на брата Анны Виллима. Государь приближает его к себе, возвышает на высокую степень придворных званий и в нем находит человека, который разбивает его семейное счастье, отравляет последние дни его жизни и — это еще догадки — делается одной из причин преждевременной кончины Петра Великого».
Отзыв этот слишком суров: несчастная женщина едва ли заслужила такой жесткий приговор истории.
История, быть может, сама виновата перед осуждаемой ею женщиной: не по вине ли Анны Монс Петр полюбил забавы в немецкой слободе? Не там ли он наслушался о чудесах цивилизованного мира, когда еще не видал его из своей Москвы? Не Анна ли Монс была причиной, что любовь к более или менее европейски цивилизованной девушке заставила Петра оглянуться и на свой старомосковский охабень, и на старую Русь, а потом заглянуть в Европу, чтобы русскому «медвежонку», как называли молодого Петра стрельцы, не стыдно было в немецком кафтане показаться перед девушкой, которая, подобно золотым яблокам Геркулеса, вывезена была из Армидиных садов Европы и заставила русского Геркулеса похотеть и самому побывать в этих садах, чтоб вывезти оттуда золотые яблоки цивилизации?
Он так и сделал, потому что русскому Геркулесу Анна Монс казалась светлым лучом, пробившимся из царства света.
II. Гетманша Скоропадская (Настасья Марковна Скоропадская, урожденная Маркович)
С наступлением XVIII века вместе с Великой Россией и Малороссия начинает новый цикл исторического существования, на котором резкой тенью лежит уже окраска нового времени, нового направления.
Но это новое время для Малороссии должно было выказаться не в том, в чем оно выказалось для Великой России. Великая Россия вместе с Петром сделала крутой поворот по не протоптанному еще пути, которым она силилась выйти на культурную дорогу, проторенную западной цивилизацией. Малороссия тоже должна была сделать крутой поворот, но только в направлении, обратно противоположном тому, какое избрала Великая Россия: для последней силу нравственного тяготения с нового времени представлял Запад; для Малороссии же это западное тяготение было не новостью. Малороссия и до соединения с Великой Россией тяготела к Западу через Польшу. Это западное тяготение и погубило Малороссию, убило в ней последнюю тень политической и государственной автономии. Сначала исторические несчастия, постигавшие Польшу, постигали и Малороссию, когда они составляли до некоторой степени одно политическое тело. Потом государственная деморализация Польши заразила неизлечимой гангреной и некоторые части малороссийского государственного тела. При Богдане Хмельницком Малороссия поняла, что тяготение ее к Западу спасительнее будет не через такой непрочный, подгнивший проводник, как Польша, а через прочно вкопанные в историческую почву столпы русской народной жизни.
Мазепа хотел было вновь наклонить это нравственное и политическое тяготение Малороссии к Западу, хотел создать для нее даже собственное, независимое тяготение — и погиб сам, сделав западное тяготение для Малороссии, по-видимому, навсегда гибельным и немыслимым.
Поддалась было этому западному тяготению и последняя малороссийская женщина, последняя в смысле старой, исторической, гетманской Малороссии, — и тоже погибла, погубив свое семейство, подведя голову отца под топор мазепинского ката. Это была возлюбленная Мазепы — Матрена Кочубей.
Малороссия увидела, что для нее невозможно уже было западное тяготение, что тяготение это, по крайней мере при известных политических комбинациях, всегда будет гибельно, и первой женщиной-украинкой, сознавшей эту политическую истину, была современница несчастной Матрены Кочубей — гетманша Настасья Скоропадская.
Скоропадская является как бы преемницей Матрены Кочубей, новой украинской женщиной. Матрена, ослепленная страстью к своему седому возлюбленному гетману, мечтала видеть в своих руках гетманскую булаву. Мало того, отуманенная обаятельными поэтическими речами влюбленного старика, девушка мечтала видеть «украинскую корону» на седой голове этого старого поэта, и, конечно, корона эта грезилась девушке и на ее молодой, прекрасной чернявой головке.
Скоропадская вырвала из рук Матрены эту гетманскую булаву, потому что поняла, куда должна была тяготеть с этой булавой вся Малороссия: булава эта буквально очутилась в руках Настасьи Скоропадской, потому что муж ее, гетман Иван Скоропадский, человек слабый, безвольный, бесхарактерный, не умел держать эту булаву и охотно фактически уступил ее своей умной, энергичной и хорошенькой Насте.
Сохранившийся портрет изображает Настасью Скоропадскую замечательно миловидной женщиной. Портрет, по-видимому, рисован был с нее еще в молодости. Прелестное овальное личико, с тонкими, почти детскими чертами, полно грации. Что-то деликатное и изящное проглядывает в этих чертах, в разрезе больших глаз, в очертаниях рта и красивых маленьких губок.
Гетманша изображена в высокой меховой шапке, вроде казацкого кивера или гайдамацкой красивой киреи, напоминающей московскую старинную шапку-боярку, только более изящной формы, с выдающимся набок верхом, по-казацки. Шубка на Скоропадской меховая, с узкими рукавами, опушенными тоже мехом, вроде украинской «коротушки», которая ловко обрисовывает стан и талию женщины; в левой руке с тонкими изящными пальцами что-то вроде тросточки или, по-видимому, маленькой гетманской булавы; в правой руке, приложенной повыше пояса или, скорее, к груди, — платочек, украинская «хусточка». Шубка распахнута, и из-под нее виднеется белая, шитая по-украински сорочка с широкой лентой, или украинскою «стричкою», у горла. На шее — украинское «намисто», кораллы, любимое украшение малороссиянок до настоящего времени, украшение, которым и Мазепа не раз прельщал свою «безумно коханую» Мотроненьку Кочубей.
Скоропадская происходила из малорусского рода Марковичей. Где и какое получила она воспитание — неизвестно; но что родилась она в семье образованных малороссиян, доказывается тем, что родной ее племянник, «малороссийский подскарбий генеральный», Яков Маркович, оставивший любопытные записки о Малороссии того времени, был человек совершенно европейского образования, знал иностранные языки, ученым образом знаком был с медициной и вообще, по-видимому, находился на уровне не русского, не московского, а западноевропейского образования. В такой образованной среде воспитана была и Настасья Маркович, впоследствии гетманша Скоропадская.
В дневнике образованного малороссийского подскарбия почти на каждой странице попадается имя гетманши Скоропадской — «ясновельможная тетка» подскарбия, «ясновельможная пани» и так далее.
Вышедши замуж за Скоропадского, молоденькая Настатья Маркович, впоследствии, когда муж ее выбран был в гетманы, в позднейшие, так сказать, преемники погибшего Мазепы, стала во главе управления всею Малороссиею, потому что муж ее, как мы сказали, далеко был не способен заправлять этою, привыкшею к вольности, страною.
Петр Великий, очень хорошо понимавший людей и относительную их пригодность или непригодность к делу, скоро оценил деловые качества молоденькой украинки, заправлявшей своим мужем, и через нее стал действовать на заправление ходом всех малороссийских дел на месте.
Когда у Скоропадской выросла дочь Ульяна, Петр Великий, желая еще более упрочить нравственное тяготение Малороссии не к Западу, а к Великой России, задумал брачными связями украинок с великороссиянами и великороссиянок с украинцами укрепить это тяготение и конечное объединение в будущем Великой и Малой России.
С этою целью Петр обратился к Скоропадской с предложением отдать дочь Юлианию за великороссиянина из знатного рода, за Петра Петровича Толстого, сына тайного советника Петра Андреевича Толстого, который, как известно, помогал Петру Великому в доставлении из-за границы царевича Алексея Петровича.
Скоропадская тоже поняла необходимость или неизбежность этого объединения, и когда Петр, вообще любивший устраивать свадьбы по своим государственным соображениям, вызвался быть сватом у гетмановой дочери, пани гетманова воспользовалась этим случаем для того, чтобы брак ее дочери с великороссиянином принес, кроме политической пользы ее стране, еще и материальные выгоды ее собственному семейству.
Поэтому, как ловкая женщина, понявшая силу влияния, оказываемого на царя другой женщиной, Екатериной Алексеевной, Скоропадская избрала эту последнюю своею посредницею между сватом и своею дочерью.
Вот что она по этому случаю пишет Екатерине: «Понеже его графское сиятельство (граф Головкин) учинил ответ, что царское величество не из малороссийских, но из великороссийских персон дочери нашей единственной мужа благоволит избрать, тогда мы тому монаршему благоволению весьма благодарны. У великороссийских народов есть такое обыкновение, что за дочерьми дают зятьям изобильные деревни и угодья; мы убо не имеем таковых угодий и деревень за нашею дочерью дать, и ради того, припадая у стоп ног вашего величества, всесмиренно молю исходатайствовать ныне при животе моего мужа собственно для моего во вдовстве пропитания и за дочерью дачи маетностей несколько».
И маетности эти были получены.
Таким образом, как по воле Петра состоялось обряжение великорусских бояр из московского в немецкое платье и знаменитое историческое обрезание боярских бород, так, по воле того же царя и при помощи последней исторической украинки, превратившейся в первую историческую «южнорусскую» женщину, совершилось первое объединение малорусской казацкой крови с московскою боярскою, и с тех пор в русской истории отдельные женские личности собственно из украинок исчезают, потому что последующие украинки в жизни своей и в деятельности совершенно сливаются с великорусскими женщинами, подобно тому как и история Малороссии окончательно сливается с историей Великой России: в XVIII и XIX веке уж нет отдельных малорусских исторических женских личностей, а есть общерусские женщины — Разумовские, Шаховские, Яворские, Безбородки, Сологубы, Лизогубы, Гамалеи, Кочубеи, Четвертинские и так далее.
Гетманша Скоропадская, таким образом, была первою новою украинскою женщиною и последнею из тех женщин старой Украины, лучшим и заключительным типом которых была Матрена Кочубей.
Племянник гетманши Скоропадской, упомянутый нами выше Яков Маркович, малороссийский подскарбий генеральный, оставивший после себя любопытный дневник, под 1718 годом, между прочим, говорит, что когда гетманша Скоропадская и муж ее со своей гетманской свитой ездили в Петербург и в Москву, то «на Москве, в Великий пост, за волей и сватаньем самого государя и царицы, засватали дочерь гетманскую за сына Петра Андреевича Толстого».
А под 12 октября того же 1718 года у Марковича записано: «В неделю (в воскресенье) в Глухове веселье (свадьба) было. Гетман Скоропадский дочерь свою Улияну отдал за Петра Петровича Толстого, сына тайного советника Петра Андреевича. С женихом приезжали в сватах: брат его родный старший Иван Петрович и другой в первых (то есть двоюродный) Борис Иванович и несколько при них особ великороссийских».
Затем мужа Ульяны Скоропадской, Петра Толстого, царь назначил нежинским полковником: это был первый в Малороссии полковник, происходивший не из природных украинцев.
Так, при помощи Петра и не без влияния Скоропадской, совершалось нравственное и политическое объединение Великой и Малой России, или воссоединение частей русского народа, давно когда-то разорванного на две половины разными историческими невзгодами, — в этом огромная историческая заслуга Скоропадской.
Мало того, Скоропадская и в своей обыденной жизни поддерживала и укрепляла связь великорусской и малорусской половин русской земли: обладая светлым умом и природным тактом, Скоропадская умела ласково и с достоинством принимать у себя в Глухове, в гетманском помещении, высоких гостей, которые наезжали в Малороссию из Москвы и Петербурга, на славу их угощала и тем побеждала московскую гордость и грубость, с которой когда-то плохо ладила неумелая и не менее грубая старшина малороссийская.
С другой стороны, Скоропадская сама платила визиты навещавшим ее русским вельможам и неоднократно ездила в Москву и Петербург, покидая надолго свою гетманскую столицу, Глухов, чего до того времени не решилась бы сделать ни одна украинская женщина, если б к тому не принудили ее крайние обстоятельства.
Так, когда в 1722 году пан гетман Скоропадский ездил в Москву со своей свитой, с генеральным писарем Савичем, бунчуковым генеральным Лизогубом и нежинским полковником Петром Толстым, к этой свите «ясновельможная пани гетманова» присоединила свою собственную свиту и дала возможность московским людям видеть и свою украинскую красоту, и свое гетманское величие.
В этом же году, по возвращении из России, гетман Скоропадский умер и на его место избран был другой гетман.
Оставшись вдовою, уступив гетманскую булаву другому лицу, Скоропадская, несмотря на то что не имела уже никакого официального положения, до самой, однако, своей смерти удержала за собой титул «ясновельможной пани гетмановой».
Время шло, и Скоропадская видела приближение старости.
Умер Петр, ее царственный сват и покровитель.
В 1728 году овдовела и дочь Скоропадской, нежинская полковница Ульяна Толстая: Толстой умер, как записано в дневнике племянника пани Скоропадской, «с той причины, что питьем излишним водки он повредил легкое и нажил эпилепсию».
В 1729 году Скоропадская снова едет в Москву со всей малороссийской старшиной. У нее есть особая цель в этой поездке — исходатайствовать себе и вдовствующей дочери своей несколько новых маетностей от русского правительства.
В Москве и Петербурге, при содействии графа Головкина, Скоропадская исходатайствовала себе новое царское жалованье, и императрица по этому случаю указом объявляла: «Пожаловали мы гетманшу Скоропадскую за верную службу мужа ее, гетмана Ивана Скоропадского, — повелели дать ей для пропитания от трех до четырех сот дворов, по ее смерть».
В то же время Скоропадская просила, чтобы ей позволено было взять к себе дочь свою, вдову Толстую, которая по высочайшему указу находилась в деревне — и императрица снизошла и до этой просьбы заслуженной украинки.
Скоропадская в этот раз довольно долго оставалась в Москве и Петербурге: это был ее последний визит Великой России, последнее путешествие.
Под 15 марта этого года в дневнике Марковича значится: «Пани Скоропадская была у графа Головкина и благодарила его за определение маетностей».
Под 14 апреля читаем: «Пани принесена на Кучеровку, Сасиновку и Лиловицу грамота, а принесли подьячие иностранной коллегии, которым дали первейшему 15 рублей, а другому 3 рубля». Это — взятка Малороссии великорусскому чиновничеству.
28 апреля Скоропадская обратно выехала в Украину, в бывшую столицу свою, Глухов.
Под 17 июня у Марковича отмечено: «Ясновельможная была у князя Шаховского, а потом с нею я ездил до пана гетмана, где и обедали и у пани гетмановой».
Через день в дневнике отмечено: «Князь Шаховской визиту отдавал тетке моей» — то есть Скоропадской.
Старая украинка знакома уже была с европейскими обычаями. Зато ей все оказывали почет не по одному ее высокому положению, но и по уму, по такту, с которым она держала себя. Так, в дневнике Марковича нередко встречаются отметки: «У тетки были после обеда князь с княгиней и комендантша» и тому подобное.
Но недолго привелось прожить этой женщине после возвращения из Великой России.
В декабре 1729 года Скоропадская занемогла и уже не вставала больше.
Вот как Маркович описывает последние дни своей ясновельможной тетки:
11 декабря: «У тетки немоществующей был и ввечеру приехал к себе пообедать, а потом снова к ней поехал и допоздна пробыл».
16 декабря: «Пани больше больна становится; я перед полночью от нее в дом повернулся».
17-го: «Тетка немоществуюшая приняла маслосвятие и исповедь и причастие святых тайн».
18-го: «Тетка горше стала болеть, а в ночи совсем изнемогла».
Наконец, 19 декабря в дневнике записано: «Тетка моя, Анастасия Скоропадская гетманова, сего утра с полночи 7-й минут 40, временное сие окончила житие, при христианской доброй рефлекции; ибо, перед кончиною, Господа Бога от сердца призывала и наконец сказала: „О тяжкая временная жизнь! О вечная будущей радость!“...»
В высшей степени любопытно описание печальной процессии, с которою тело гетманши сопровождаемо было по городу, временной столице гетманов Украины. И в этой процессии принимает участие уже не одна Малороссия: представители Великой России также идут за гробом бывшей гетманши.
Вот это описание, помещенное под 21 декабря:
«Рано по службе Божией, покойной ясновельможной тело положили в труну, черным аксамитом с золотым позаментом обитую, и под балдахином, с черного сукна сделанным, цугом лошадей в капах черных повезли публично чрез город. При сей церемонии присутствовали гетман с гетмановою, князь Шаховской с княгинею и множество из великороссийских знатных лиц, также и народ.
Выпроводивши гроб за город, не доходя Четвертинского млина, они воротились, а мы поехали за телом и приехали в ночном времени к монастырю Гамалеевскому, где все старицы со свечами вышли против тела с плачем и воплем безмерным.
Тело ввезли в монастырь и поставили в трапезе, где усмотрели, что на лице покойной, на правой стороне подбородка, очень красно, также и правого уха нижний конец очень красен, и уши мягки, а лицо ни в чем не изменилось и какую-то вдячность и осклабление якобы показывало.
Тут панихиду великую отправили».
Около месяца тело усопшей гетманши оставалось непогребенным.
Но вот 13 января 1730 года совершено и погребение Скоропадской.
При погребении присутствовали: «с духовенства архимандрит новгородский Нил, который службу Божию служил и в погребении начальствовал, префект коллегиума киевского Амвросий Дубневич, который предику пространную говорил, монастыря петропавловского законники, пустынки мутинской начальник с братиею, протопоп глуховский со многими попами, также священники и с других городов, именно Воронежа, Новгородка и Кролевца. Из мирских лиц знатнейшие: пани гетманова, княгиня Шаховская и Мякинина, пани Петрова Апостолова и пани Михайлова, тетки пани Павлова и пани Миклашевская с мужем, бригадир Арсеньев, пан Федор Савич и другие».
Тело гетманши положено рядом с телом мужа, гетмана Скоропадского.
Нельзя при этом обойти молчанием последнюю волю этой замечательной украинки, выраженную в ее духовном завещании.
Высокой торжественностью и силой дышит язык этого завещания:
«Естества человеческого, прародительным падением разрушенного, тот единый состоит долг: человекам смертным, от персти созданным, по смертном временного сего течения пресечению, знову в перст вселитися...
Сего ради я, будучи оному первому долгу генеральным создателя своего определением повинная, а другим по человеколюбным спасителя заповедем одолженная, завременно той последний воспоминая предел, объявляю мою последнюю волю...» и так далее. Воля эта главным образом состояла в том завете, чтобы после ее смерти между домашними и родными ее не было «мятежей, распрь, истязаний».
В предсмертных распоряжениях Скоропадская не забывает своих крестьян и служителей и так торжественно наказывает наследникам: «...оставших домашних моих, а особливо служителей дому моего, истязывать и затруднять никто же да дерзнет...»
В другом месте, говоря об отказе имения дочери своей, Юлиании Толстой, Скоропадская еще определеннее выражает свою заботу о служителях дома.
«Служителей моих, — говорит она, — а особливо Андрея Кондзеровского и Агафию Ивановну, которые даже до кончины моей верно и усердно с презрением всякой пользы и покоя служили покойному сожителеве моему и мне, иметь оной дочери моей Улиане и наследникам в особливом респекте и помогать во всем».
Как ни была, по-видимому, блестяща жизнь этой женщины, однако много пришлось ей пережить в эпоху ломки, предпринятой Петром Великим на всех концах России и нелегко отразившейся на Малороссии при окончательном сплочении ее с Великой Россией в одно политическое, государственное и экономическое тело.
Припомним только одно: что Скоропадская находилась в родстве с домом знаменитого гетмана Павла Полуботка, отношения которого к суровому преобразователю России приобрели такую печальную историческую известность: в последних, тщетных порывах Малороссии отклонить от себя тяжелую великороссийскую руку Скоропадская стояла, так сказать, между Сциллой и Харибдой, и надо было много умения с ее стороны, чтобы московская неудержимая сила не раздавила окончательно и того, что решилось бы неблагоразумно ей сопротивляться, и того, что уже сознало бесполезность этого сопротивления.
III. Матрена Балк (Матрена Ивановна Балк, урожденная Монс)
Матрена Балк, как мы видели выше, была родной сестрой той самой женщины, на которую пала первая любовь молодого «царя-работника» и которая, кажется, была не последней, хотя, быть может, невольной виновницей того, что Петр задумал во что бы то ни стало прорубить окно в Европу, откуда на него повеяло и первой молодой любовью в лице хорошенькой дочери виноторговца, и охмеляющим запахом цивилизации.
Хотя Матрена была старшею сестрою Анны Монс, однако она надолго пережила свою знаменитую младшую сестру, и судьба ее имела, кажется, роковое влияние на Россию в том отношении, что тот, кто любил ее младшую сестру и отчасти ради нее ввел свой народ в общий строй европейской цивилизации, раньше был утрачен Россией, чем этого следовало бы ожидать.
По многим причинам Матрена Балк заслужила историческое, хотя и не вполне завидное бессмертие: она вместе со своей сестрой способствовала тому, что Петр охотно менял традиционные удовольствия двора на новые для него удовольствия немецкого общества Кукуй-городка, потому что молодой царь охотно посещал дом Монсов, где встречал двух красивых и развязных девушек-сестер; она вместе с сестрой способствовала, конечно рефлекторно, тому, что симпатии молодого царя через них стали тяготеть более к Западу, чем к Востоку; она же, вместе с братом своим Виллимом, о котором мы тоже упоминали выше, несчастным образом способствовала тому, что Петр, умирая раньше, чем следовало бы, самой смертью своей как бы завещал своему народу нравственное служение той национальности, из которой вышли сестры-девушки, надолго приковавшие симпатии царя-преобразователя к себе.
Матрена Монс недолго, однако, оставалась в родительском доме, в котором так часто видела молодого русского царя. Когда Петр стал оказывать видимое внимание к их семейству, Матрена была просватана за одного из отличенных царем слуг, за Федора Николаевича Балка, который в 1699 году был уже полковым командиром и потом все более и более поднимался по служебной лестнице.
Таким образом, сестры должны были разлучиться хотя ненадолго, и Матрена Балк стала называться Матреной Ивановной Балк или «Балкшею».
Хотя о последовавшем за этим периоде жизни Матрены Балк и сохранилось немало известий, но события жизни ее были не столь рельефны до рокового 1724 года, чтобы оставить заметный след в истории.
Превратная судьба ее младшей сестры — любовь царя, потом грозная его «сиверка» вследствие тайной дружбы девушки с саксонским посланником Кенигсеком, затем освобождение опальной девушки из-под трехлетнего домашнего ареста — все это непосредственно отражалось и на судьбе Матрены Балк.
Когда Петр обнаружил, что любимая им девушка тайно переписывается с Кенигсеком, он велел арестовать ее, но не одну: с ней арестована была и сестра Матрена, способствовавшая, как полагают, тайным сношениям Анны с Кенигсеком.
Мы видели, что три года лежала царская опала на провинившихся сестрах: три года они изнывали взаперти, прибегали к колдовству, ко всем таинственным силам, чтоб воротить к себе милость обиженного царя, и только в 1706 году были освобождены из-под ареста.
Муж Матрены Балк состоял в это время в должности коменданта вновь завоеванного Дерпта, и Матрена Ивановна, по освобождении из-под ареста, отправилась на житье к мужу. Там она пробыла до 1710 года, а потом царь, пожаловав Балка бригадиром, назначил его комендантом крепости Эльбинга, где они и находились до 1714 года.
От этого времени сохранились письма Матрены к брату Виллиму о сестре Анне, когда, покинутая Петром и потерявшая мужа, баронесса Кейзерлинг уже томилась в чахотке и хлопотала о том, чтоб не расхищено было имение ее покойного мужа.
«Прошу тебя, — пишет Матрена в одном из этих писем брату, — делай все в пользу Анны, не упускай время. Один Бог знает, как больно слышать упреки матушки, что мы не соблюдаем интересов нашей сестры».
Так горячо все они любили свою Анну, которая действительно, должно быть, стоила такого горячего чувства со стороны всех, кто ее знал, не исключая и вечно занятого царя-работника.
«Если не лучше будут действовать в деле любезной нашей сестры, — пишет Матрена в другом письме к брату, — то маршал Кейзерлинг достигнет своей цели и присвоит себе вещи покойного мужа Анны. Видно, ты не очень-то заботишься о данном тебе поручении, за что и будешь отвечать перед нашей сестрой».
Везде эта сестра, эта общая любимица Анна — на первом плане.
Около этого времени или несколько раньше (осенью 1711 года) счастливая, а как оказалось потом, роковая судьба свела Матрену Балк с будущей императрицей Екатериной Алексеевной, которая вытесняла уже из сердца царя сестру Матрены, «любезную Аннушку».
Когда Матрена находилась с мужем в Эльбинге, туда приехала Екатерина Алексеевна, и государь писал между прочим мужу Матрены: «Отпустил я жену свою в Эльбинг, к вам — и что ей понадобится денег на покупку какой мелочи, дайте из собранных у вас денег».
Расторопная и сметливая Балк скоро умела снискать расположение Екатерины до такой степени, что даже государь, может быть в угоду своей супруге, забыл свою опалу на нее и на ее недавно овдовевшую сестру и показывал ей все знаки царского внимания. «Отпиши ко мне, — писал между прочим Петр Екатерине Алексеевне в августе 1712 года, — к которому времени родит Матрена, чтоб мне поспеть».
Через два месяца Петр, приказывая очистить Эльбинг от войск, велит позаботиться, чтобы Матрена была бережно вывезена из крепости вперед ее обозами. Видно, что Петр не забывал того времени, когда знал Матрену еще девушкой в Кукуй-городке и был счастлив там своей первой привязанностью.
Все эти знаки царского внимания дали Матрене Ивановне надежду на лучшие времена, и она стала рваться из Эльбинга в Россию, ко двору, поближе к тому светлому центру, из которого исторгло их несчастье сестры Анны.
Около этого времени и брат ее Виллим уже далеко поднялся в гору. К нему-то она теперь шлет письмо за письмом, чтоб через влиятельных особ он вывел ее из далекого Эльбинга, чтоб у царя выхлопотал ей с мужем перевод по крайней мере в Або. «Здесь же все очень дорого, — говорит она, — а муж полтора года не получает жалованье, и мы проживаемся; к тому же мой бедный муж так болен, что я опасаюсь за его жизнь».
Мало того, практическая Матрена не забывает выдвигать вперед и своего сына Петра, который уже был взрослым молодым человеком.
«Прошу вас, — пишет она брату, — пожалуйста, сделайте, чтоб сын мой Петр у царя доброю оказиею был, понеже лучше, чтоб он у вас был. Я надеюсь, что он вскоре у вас будет, понеже муж мой пошлет его с делами в Санкт-Петербург».
Скоро — как нам уже известно — умерла их общая любимица, сестра Анна.
Но это семейное горе умерялось другим счастьем: брат Виллим шел в гору так быстро, что у всякого на его месте должна была закружиться голова, — и действительно, голова закружилась не только у красавца Виллима, но и у его умной сестры Матрены.
В 1716 году Виллим Монс из «генеральс-адъютантов» царя произведен был в камер-юнкеры ко двору царицы. Это была особая милость и царя, и царицы: Виллим становится всесильным временщиком даже при таком всезнающем и всевидящем царе, каков был Петр.
«Я от сердца обрадовалась, — писала по этому поводу сметливая Матрена к брату, — что вы, любезный мой брат, слава богу, в добром здравии — Боже помози вам и впредь! А вы ко мне пишите — что то к счастию или несчастию. Бог вас сохранит от всякого несчастия».
Да, это было и к громадному счастью, и к еще более громадному несчастью и Виллима, и Матрены.
Матрена Ивановна достигла своих стремлений — она опять при дворе. Счастье широко им улыбнулось, только счастья этого уже не разделяла их бедная Анна, лежавшая уже в сырой земле и утратившая тот прелестный образ, которым так многие когда-то любовались.
Брат Матрены стал общим любимцем при дворе. В него влюблялись все фрейлины и другие важные девицы и дамы, а Матрена охотно становилась посредницей между влюбленными. Через ее руки шли любовные записки, признания — и все это после обнаружилось, а обнаруженное стало потом достоянием архивов и истории.
Но этого мало. Брат Матрены скоро стал буквально заправлять русской землей, а за ним поднималась и Матрена, так что перед братом и сестрой преклонялось все: князь Андрей Вяземский, Иван Шувалов, отец будущего временщика Елизаветы Петровны, князь Александр Черкасский, Артемий Волынский, эта крупная личность того времени, Алексей Бестужев-Рюмин, Петр Бестужев-Рюмин, Матвей Олсуфьев, Иоганн Эрнест Бирон, будущий грозный временщик другого царствования, Лесток — опять тоже будущий временщик, Гагарин, Михаил Головкин, посол в Берлине, князь Алексей Григорьевич Долгорукий, Лев Измайлов, посол в Китае, Семен Нарышкин, князь Одоевский, князь Никита Трубецкой, Владимир Шереметев, князь Сергей Юсупов — вся эта знать в десятках и сотнях то просительных, то поздравительных, то ласкательных и заискивающих писем спешила расточать свою любезность перед блестящим светилом двора, повергать к его ногам и к ногам его сестры Матрены Ивановны свои просьбы, челобитья и так далее и так далее — все это патенты на историческое бессмертие, и все это теперь покоится в архивах на полках, ждет будущих историков.
Вся эта масса патентов на бессмертие раскрылась тогда же, когда всесильный брат и сестра его были арестованы и бумаги их разбросаны были самим Петром в Тайной канцелярии.
И брат, и сестра обвинены были в крупном, поголовном взяточничестве. Было за ними и другое, тайное преступление, о котором история может только догадываться, потому что Петр своей рукой закрыл это преступление от взоров истории...
Не касаясь деяний Виллима Монса, мы укажем только на несколько случаев лихоимства Матрены Балк, что и послужило открытым предлогом для суда над нею.
Петр Салтыков дарит ей возок, и вот Матрена Ивановна, зная, как силен брат ее у императрицы, пишет ему: «Любезный братец! Петр Салтыков посылает к тебе своего слугу и просит ради бога похлопотать об его имении: его туда не пускают. Сделай, пожалуйста, все, что только возможно, потому что старая императрица (царица Прасковья) хочет взять имение себе, и Олсуфьев посылал уже туда своих приказчиков, чтоб силой завладеть имением Салтыкова».
Князь Алексей Долгорукий дает ей тоже хорошую взятку — коляску да шестерку лошадей, — и Матрена Ивановна снова пишет брату: «Князь Алексей Григорьевич Долгорукой меня просил, чтобы я к тебе написала о нем и просила бы тебя не оставить его и помочь ему в его делах... Прошу, любезный братец, помоги ему: он совершенно на тебя полагается».
Другие князья Долгорукие, князь Федор, княгиня Анна, а также жена Василия Лукича Долгорукова, княгиня Черкасская, Строганов, Шафиров, княгиня Анна Голицына — все это дарит Матрену съестными припасами, кофеем, опахалами, атласом китайским, балбереком; даже царевны Прасковья Ивановна, Анна Ивановна и сама царица Прасковья дарят ей кто пятьдесят рублей, кто двести червонных.
Прослужив полтрети года (1717–1718) гофмейстериною при дворе Екатерины Ивановны, герцогини мекленбургской, и попав потом ко двору Екатерины Алексеевны, Матрена Балк жаловалась, что «одолжилась на этой службе многими долгами», и потому просила государыню пожаловать ей — в уезде Кексгольмском «питерский погост», да в Козельском уезде три села с приселками и деревнями и со всеми угодьями, да в Дерптском уезде одну мызу, да несколько деревень в Украине, оставшихся после полковника Перекрестова.
Лет восемь продолжалось это темное царствование под русской землей сестры и брата, которых власть из честных простых немцев низвела на такую степень гражданской деморализации, до которой трудно человеку принизиться, не ослепнув окончательно от блеска опьяняющей и одуряющей славы и власти.
А причина этому главным образом была в том, что великий Петр стал сильно стареть и хилеть, а вместе с тем стало притупляться и его недреманное, зоркое око.
Только за два месяца до смерти какая-то невидимая рука приподняла завесу с заслепленных глаз царя: царь получил ясные указания на то, что Монс и его сестра Балк обманывают его самым гнусным образом, обманывают не только как царя, но и как супруга, нежно, до самой смерти любившего своего последнего «друга сердешнинького Катеринушку», которая заменила ему, насколько это было возможно, его первую любовь.
Царю кто-то подал «сильненькое» письмо, а о чем или о ком — то знал один лишь царь да таинственный доносчик.
Это был страшный удар для государя; даже его железную силу пошатнул этот удар.
В ночь с 8 на 9 ноября 1724 года последовал арест Виллима Монса.
Узнав об этом, Матрена Ивановна слегла в постель: она поняла, что страшный топор занесен и над ее умной головой.
Рано утром 13-го числа действительно явился и к ней страшный Андрей Иванович Ушаков, начальник Тайной канцелярии. Генеральша должна была встать с постели и следовать за Ушаковым в его дом, оцепленный стражей.
Страшен был допрос Виллима Монса: его допрашивал сам царь, при одном виде которого подсудимый упал в обморок. Но Матрена Ивановна ничего пока этого не знала: она должна была сама давать показания на вопросы, которые и ей задавал сам государь. В чем состояли эти устные вопросы и ответы — осталось никому не известным, кроме царя и самой допрашиваемой.
На бумаге же со слов ее было записано следующее:
— Брала я взятки со служителей Грузинцовых сто рублей.
— Купецкий человек Красносельцов дал четыреста рублей.
— Купчина Юринский, бывший с послом в Китае, подарил два косяка камки и китайский атлас.
— Купец иноземец Меер триста червонных.
— Капитан Альбрехт долгу своего на мне уступил сто двадцать рублей.
— Сын игуменьи, князь Василий Ржевский, закладные мои серьги во ста рублях отдал безденежно.
— Посол в Китае Лев Измайлов по приезде подарил три косяка да десять фунтов чаю.
— Петр Салтыков — старый недорогой возок.
— Астраханский губернатор — полпуда кофею.
— Великий канцлер граф Головкин — двадцать возов сена.
— Князь Юрий Гагарин — четыре серебряных фляши.
— Князь Федор Долгоруков — полпуда кофею.
— Князь Алексей Долгоруков дал старую коляску да шестерик недорогих лошадей.
— Светлейший князь Меншиков на именины подарил мне маленький перстень алмазный, а после пятьдесят четвертей муки.
— Его высочество герцог голштинский — два флеровых платка, шитых золотом, и ленту.
— Купчиха Любс — парчу на кафтан, штофу шелкового на самар.
— Баронесса Строганова — балбереку тридцать аршин.
— Баронесса Шафирова, жена бывшего вице-канцлера, — штоф шелковый.
— Княгиня Черкасская — атлас китайский.
— Княгиня Долгорукова, жена посла Василия Лукича, — опахало.
— Княгиня Анна Долгорукова — запасу разного.
— Княгиня Анна Ивановна Голицына — то же.
— Княгиня Меншикова — на именины ленту, шитую золотом.
— Царевна Прасковья Ивановна — четыреста или пятьсот рублей, того не помню, за убытки мои, что в Мекленбурге получила; от нее ж кусок полотна варандорфского и запасы съестные — запасы те за то, чтоб просила я у брата о домовом ее разделе с сестрами.
— Царевна Анна Ивановна, герцогиня курляндская, прислала старое свое платье.
— Царица Прасковья Федоровна подарила двести червонцев.
— Да ныне, в Москве, из многих господских домов присылали мне овса, сена и прочего всякого запасу домового, а сколько и когда — не помню.
В тот же день, 13 ноября, после полудня, отряд солдат с чиновником и барабанщиками проходил по улицам и площадям Петербурга, и когда сбегался народ на барабанный бой, ему объявляли, чтоб каждый из них, кто давал взятки камергеру Монсу и сестре его, генеральше Балк, или знает что об этом, немедленно доводил о том до сведения начальства, под страхом тяжкого наказания.
14 ноября — тот же барабанный бой по городу.
15 ноября состоялось постановление «вышнего суда»: «Учинить ему, Виллиму Монсу, смертную казнь».
15-го же ноября сам государь на докладе дела написал: «Матрену Балкину — бить кнутом и сослать в Тобольск». Других прикосновенных к делу подвергнуть иным соответственным наказаниям, и в том числе первого пажа Екатерины Григория Солового — высечь батогами и написать в солдаты.
15-го же ноября на стенах домов в Петербурге прибита была следующая публикация:
«1724 года, ноября в 15 день, по указу его величества императора и самодержца всероссийского, объявляется во всенародное ведение: завтра, то есть 16 числа сего ноября, в 10 часу пред полуднем, будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу да сестре его Балкше, подьячему Егору Столетову, камер-лакею Ивану Балакиреву (знаменитому шуту Балакиреву!) — за их плутовство такое: что Монс, и сестра его, и Егор Столетов, будучи при дворе его величества, вступали в дела противные указам его величества не по своему чину, и укрывали винных плутов от обличения вин их, и брали за то великие взятки, и Балакирев в том Монсу и прочим служил».
16 ноября Монсу отрублена была голова.
Тут же, у трупа брата, Матрене Балк читано было:
«Матрена Балк! Понеже ты вступила в дела, которые делала чрез брата своего Виллима Монса при дворе его императорского величества, непристойные ему, и за то брала великие взятки, и за оные твои вины указал его императорское величество бить тебя кнутом и сослать в Тобольск на вечное житье».
Экзекуция кончилась.
Тут же, на особых столбах, прибиты были росписи взяткам: имена тех, кто брал, и тех — кто давал.
Все это дело Монса и его сестры — странное и таинственное дело.
Один из новейших историков России так говорит об этом деле:
«В ноябре 1724 года государь Петр I испытал в недрах собственного семейства глубокое огорчение; оно не могло остаться безнаказанным. Довереннейшими и приближеннейшими особами его супруги были: первый ее камергер Монс и его сестра, вдова генерала Балк. Монс приобрел такое значение и такую благосклонность у Екатерины, что всякий, кто только обращался к нему с подарками, мог быть уверенным в исходатайствовании ему милости у императрицы. Петр сведал наконец о взяточничестве Монса. Монс и его фамилия были арестованы, преданы суду, обвинены в лихоимстве. Впрочем, — заключает этот историк, — из донесения австрийского посла, графа Рабутина, очевидно, что это обвинение служило лишь предлогом к казни Монса и его слишком услужливой сестры: преступления их были гораздо гнуснее...»
Другие же, менее достоверные повествователи этого события, рассказывают дело с подробностями не совсем вероятными, хотя и построенными на исторической основе, на фактах, которых отрицать нельзя.
Говорят, что Монса погубила собственная красота его и злоупотребление ею, а сестру его — неуместная услужливость.
Гельбиг повествует, что когда Монс заслужил особенное внимание Екатерины Алексеевны и стал им охотно пользоваться, то, «чтоб удержать взаимную склонность в границах приличия, необходимо было дать этому любимцу какое-нибудь место при дворе и таким образом вести интригу, не возбуждая ни в ком подозрения. Екатерина повела дело искусно: Монс произведен был в камер-юнкеры, а потом в камергеры ее двора. Петр ничего не подозревал; раз только царевна Елизавета, тогда еще болтливый и резвый ребенок, рассказала, что маменька очень смутилась, когда она приходом своим прервала беседу ее с Монсом. Отец не обратил внимания на детскую болтовню, и дело на ту пору обошлось без последствий. Несколько времени спустя Петр получил донос более определенный; тогда он дал генеральше Балк щекотливое поручение подсматривать за братом. 8 ноября 1724 года государю вздумалось съездить в Шлиссельбург. По доносу П. И. Ягужинского ревнивый Петр несколько часов спустя вернулся в город и, никем не замеченный, пробрался во дворец (ныне Екатерининский институт), где и застал супругу беседующей с Монсом, тут же была его сестра, Балк».
После ужасной сцены — по словам того же Гельбига — Петр ужинал, по обыкновению, во дворце, а на другой день Монс был арестован; вслед за Монсом посадили в крепость Матрену Балк, секретаря императрицы и одного камер-лакея. Петр в течение нескольких дней сам снимал допросы с виновного. Деятельным пособником при розыске был Ушаков. Рассказывают, что при этом монарх пришел однажды в такой гнев, что хотел собственноручно покарать красавца-камергера, но Никита Иванович Репнин, случившийся при этом, удержал разгневанного властелина. Следствие и суд произведены были с необыкновенной скоростью. 10 ноября обвиненного привезли в Зимний дворец, где собрался Верховный суд. Рассказывают, что здесь несчастного схватил паралич. 16 ноября Монс был выведен из крепости под прикрытием большого конвоя. Он простился с дворовыми людьми своими, которые проливали слезы, обнимая в последний раз своего господина. Близ Сената, на Петербургской стороне, на том самом месте, где несколько лет тому назад погиб на виселице князь Гагарин, прочитан был Монсу смертный приговор. Официальным предлогом к его осуждению было обвинение в лихоимстве. Камергер выслушал приговор с необыкновенной твердостью; снял с себя нагольный тулуп, шейный платок, положил голову на плаху, подарил сопровождавшему его пастору золотые часы с портретом государыни и просил у палача одной милости — отрубить голову скорее, с одного удара. Голова была отделена от туловища и взоткнута на шест, а тело долго еще лежало на месте казни. В тот же день мимо рокового помоста проехал государь в санях со своей супругой и указал трепещущей Екатерине на голову некогда дорогого ей камергера.
Не смея заступиться за него во время следствия и суда, Екатерина, говорят, молила государя о пощаде Матрены Балк, сестры несчастного Монса. Разгневанный Петр ударом кулака разбил большое венецианское зеркало. «Видишь, — сказал он жене, — одного удара достаточно было, чтобы разбить эту драгоценность: одного слова будет довольно, чтоб обратить тебя в прах, из которого я тебя возвысил». Нежная супруга сия, повествует Голиков, с умилительным прискорбием взглянув на великого монарха, отвечала: «Вы разбили прекрасное украшение своего дворца — неужели вы думаете, что дворец станет от этого лучше?»
Говорят также, что отрубленную голову Монса государь приказал положить в спирт и поставить сначала ее в кабинет императрицы, а потом отдал на сохранение в академический музей вместе с хранившеюся уже там другой прекрасной отрубленной головой — девицы Гамильтон, о которой будет рассказано в своем месте.