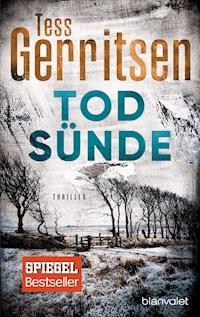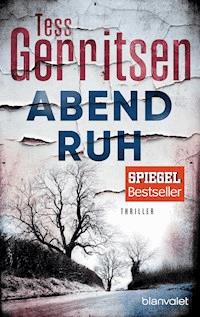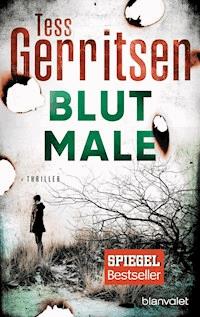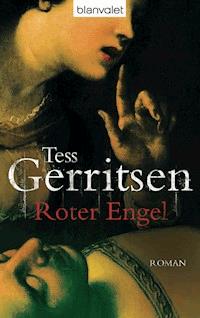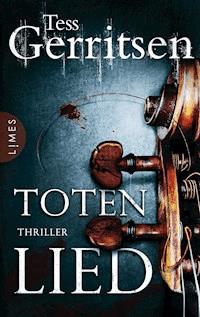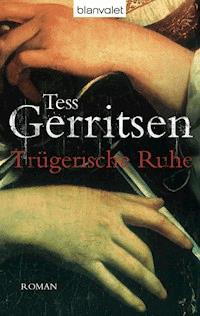Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Krimi
- Serie: Звезды мирового детектива
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
В полутемном антикварном магазинчике в Риме скрипачка Джулия Ансделл натыкается на пожелтевший листок с нотной записью — вальс неизвестного ей композитора. Джулия приходит в восторг от этой музыки, полной страдания и страсти. Вернувшись домой в Бостон, она начинает разучивать вальс, но внезапно обнаруживает, что эта мелодия оказывает необъяснимое, пугающее воздействие на маленькую дочь Джулии. Убежденная в том, что гипнотические звуки вальса навевают какие-то злые чары, Джулия решает раскопать всю правду о человеке, создавшем музыку, которая ставит под угрозу само существование ее семьи... В книгу вошли также два рассказа о Джейн Риццоли и Мауре Айлз. Впервые на русском языке!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Содержание
Tess Gerritsen
PLAYING WITH FIRE
Copyright © 2015 by Tess Gerritsen
FREAKS
Copyright © 2010 by Tess Gerritsen
JOHN DOE
Copyright © 2012 by Tess Gerritsen
All rights reserved
Перевод с английского Григория Крылова
Оформление обложкиСергея Шикина и Екатерины Платоновой
ГерритсенТ.
Игра с огнем: роман, рассказы/ Тесс Герритсен ; пер. сангл.Г. Крылова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016.(Звезды мирового детектива).
ISBN978-5-389-11183-7
16+
В полутемном антикварном магазинчике в Риме скрипачка Джулия Ансделл натыкается на пожелтевший листок с нотной записью — вальс неизвестного ей композитора. Джулия приходит в восторг от этой музыки, полной страдания и страсти. Вернувшись домой в Бостон, она начинает разучивать вальс, но внезапно обнаруживает, что этамелодия оказывает необъяснимое, пугающее воздействие на маленькую дочь Джулии. Убежденная в том, что гипнотические звуки вальса навевают какие-то злые чары, Джулия решает раскопать всю правду о человеке, создавшем музыку, которая ставит под угрозу само существование ее семьи...
В книгу вошли также два рассказа о Джейн Риццоли и Мауре Айлз.
Впервые на русском языке!
©Г. Крылов,перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство АЗБУКА®
Игра с огнем роман
Джулия
1
Уже от дверей я чувствую запах старых книг, аромат крошащихся страниц и тронутой временем кожи. Я заходила и в другие антикварные магазины этого мощеного проулка: там работают кондиционеры, двери плотно закрыты, чтобы не пускать внутрь жару, а здесь дверь распахнута и заклинена, она словно приглашает меня войти. Сегодня мой последний вечер в Риме, последняя возможность купить что-нибудь на память о поездке. Я уже нашла шелковый галстук для Роба и платьице с умопомрачительными рюшами для нашей трехлетней дочери Лили, но для себя так пока ничего и не отыскала. Но вот в витрине антикварного магазинчика я вижу именно то, что мне нужно.
Я делаю шаг за порог; внутри темно, и несколько секунд мои глаза привыкают. На улице духота невыносимая, но здесь почему-то прохладно, я словно вошла в пещеру, куда не проникают ни жара, ни свет. Постепенно в сумраке проявляются формы предметов: я различаю шкафы, набитые книгами, старый кофр, а в углу — отполированные рыцарские доспехи. На стенах картины маслом, все они аляповатые, уродливые, отмечены пожелтевшими ценниками. Я не вижу хозяина, который стоит в нише, а потому вздрагиваю, когда он обращается ко мне по-итальянски. Поворачиваюсь и замечаю крохотного человечка с бровями, похожими на поседевших гусениц.
— Прошу прощения, — отвечаю я. —Nonparloitaliano.
— Violino? — Он показывает футляр для скрипки, висящий у меня за спиной.
Инструмент слишком ценный, и я не могу оставить его в номере отеля, я всегда ношу его с собой.
— Musicista? — спрашивает он и начинает играть на воображаемой скрипке, его правая рука двигается туда-сюда с невидимым смычком.
— Да, я музыкант. Из Америки. Я выступала сегодня утром на фестивале.
Он вежливо кивает, но, думаю, не понимает моих слов. Я показываю на привлекший мое внимание предмет на витрине:
— Могу я посмотреть эту книгу? Libro. Musica.
Он вытаскивает из витрины ноты и протягивает мне. Я понимаю, что книга старая, по тому, как кромки листов крошатся под моими пальцами. Издание итальянское, на обложке вижу слово «Zingari»1 и изображение вихрастого мужчины, играющего на скрипке. Я раскрываю ноты на первой вещи, написанной в миноре. Это незнакомая мне жалобная мелодия, пальцы уже покалывает от желания сыграть ее. То самое, что я всегда ищу, — старинная музыка, забытая, но заслуживающая того, чтобы ее открыли заново.
Я просматриваю другие мелодии, и тут из книги выпадает листок и, вспорхнув, опускается на пол. Не страница, просто лист бумаги, плотно исписанный нотами. Название композиции выведено изящными размашистыми буквами.
«Incendio2, Л. Тодеско».
Я читаю музыку, слышу звучание нот у себя в голове, и мне хватает нескольких тактов, чтобы понять, насколько прекрасен этот вальс. Начинается он с простой мелодии в ми миноре, но с шестнадцатого такта становится сложнее. С шестидесятого такта ноты начинают громоздиться на ноты, сталкиваться. Я переворачиваю листок, каждый такт здесь плотно исписан карандашом. Цепочка проворных арпеджио закручивает мелодию безумным водоворотом нот, при виде которых мурашки бегают по коже.
Я непременно должна купить эти ноты.
— Quantocosta?3 — спрашиваю я. — Лист с записью вместе с книгой.
Хозяин смотрит на меня с коварным огоньком в глазах:
— Cento.
Он вытаскивает авторучку и пишет число у себя на ладони.
— Сто евро? Вы шутите.
— E' vecchio. Старая.
— Но не настолько же!
Торговец пожимает плечами, давая понять: либо я соглашаюсь на его цену, либо ухожу. Он уже увидел голодный блеск в моих глазах и знает, что может стрясти безумные деньги за потрепанный томик цыганских мелодий, а я заплачу столько, сколько он попросит. Музыка — моя единственная блажь. Меня не волнуют ни ювелирные изделия, ни дизайнерская одежда, ни туфли, единственная моя ценность — изготовленная сто лет назад скрипка в футляре у меня за спиной.
Он дает мне чек, я выхожу из магазина в предвечернюю жару, и она обволакивает меня, как сироп. Странно, но внутри у меня холодок. Я оглядываюсь на дом, но не вижу ни одного кондиционера, только закрытые окна и пару горгулий над щипцом. Солнечные зайчики слепят глаза, они отражаются от дверной колотушки в виде головы Медузы. Дверь теперь закрыта, но через пыльное стекло я замечаю хозяина, он смотрит на меня, но тут же опускает жалюзи и исчезает из виду.
Мой муж Роб в восторге от галстука, который я привезла из Рима. Он стоит перед зеркалом в нашей спальне, умело завязывая шелковую петлю у себя на шее.
— Вот такая штука мне и нужна, чтобы хоть как-то оживить скучные заседания, — говорит он. — Может, яркие цвета развеют их сон, когда я перейду к цифрам.
В свои тридцать восемь он так же строен и привлекателен, как и в день нашей свадьбы, хотя последние десять лет и добавили седины его вискам. В крахмальной белой рубашке с золотыми запонками мой бостонских кровей муж выглядит точно так, как и должен выглядеть педантичный бухгалтер. У него в голове одни цифры: прибыли и убытки, активы и пассивы. Роб видит мир глазами математика, даже движения его геометрически выверены: хвост галстука описывает дугу и вплетается в идеальный узел. Какие же мы разные! Из цифр меня волнуют лишь номера симфоний, опусов и музыкальных размеров. Роб всем говорит, что именно поэтому и влюбился в меня: в отличие от него, я — художник, воздушное существо, танцующее в луче солнца. Прежде я боялась, как бы различия не разрушили наши чувства и Робу, твердо стоящему на земле, не надоело удерживать свою похожую на воздушный шарик жену, постоянно воспаряющую к облакам. Но вот прошло уже десять лет, а мы по-прежнему влюблены.
Он улыбается мне в зеркале, затягивая узел на шее:
— Джулия, ты сегодня проснулась чертовски рано.
— Я все еще живу по римскому времени. Там уже двенадцать часов. Вот в чем плюс смены часовых поясов — ты только представь, сколько всего я успею переделать!
— Вот тебе мой прогноз: к полудню ты свалишься с ног. Лили в садик отвезти?
— Нет, пусть сегодня останется дома. А то я чувствую себя виноватой — целую неделю не была с ней.
— Не терзайся. Твоя тетушка Вэл, как обычно, сразу же прилетела и все взяла в свои руки.
— Я по Лили ужасно соскучилась, проведу с ней весь день — до последней минуточки.
Он поворачивается, чтобы покрасоваться в своем новом галстуке, идеально отцентрированном под воротником.
— Какие у тебя на сегодня планы?
— Жара ужасная — пожалуй, съезжу в бассейн. А еще заскочу в библиотеку за новыми книгами.
— Дельно.
Роб наклоняется, чтобы поцеловать меня, его чисто выбритое лицо терпко пахнет лимоном.
— Я так не люблю, когда ты уезжаешь, детка, — шепчет он. — Может быть, в следующий раз возьму недельку отпуска, и мы поедем вместе. Думаю, это будет...
— Мамочка, смотри! Смотри, как красиво!
Наша трехлетняя дочка Лили вбегает в спальню в новом платье, что я привезла ей из Рима, и начинает кружиться. Лили уже примеряла обновку вчера вечером, а теперь не хочет ее снимать. Она без предупреждения, как ракета, устремляется ко мне в руки, и мы со смехом падаем на кровать. Нет ничего слаще запаха моей девочки, и я не хочу упустить ни одной молекулы, хочу всю еевтянуть в себя, чтобы мы снова стали одним телом. Я обнимаю смеющийся клубочек светлых волос и бледно-лиловых оборок платья, а Роб тоже опускается на кровать и обнимает нас обеих.
— Передо мной две самые красивые девчонки в мире, — заявляет он. — И они мои, до последнего волоска!
— Папа, оставайся дома, — требует Лили.
— Ох, хотелось бы мне остаться. — Роб шумно целует Лили в голову и неохотно поднимается. — К сожалению, папе нужно на работу. Но смотри, как тебе повезло: ты весь день будешь с мамочкой!
— Давай-ка наденем купальники, — говорю я Лили. — Мы с тобой сегодня прекрасно проведем время.
Мы и в самом деле прекрасно проводим время. Плещемся в районном бассейне, едим на ланч сырную пиццу и мороженое, а потом отправляемся в библиотеку, где Лили выбирает две новые книжки с картинками про ее любимых животных — осликов. Но когда в три часа мы возвращаемся домой, я от усталости чуть не падаю с ног. Как и предсказывал Роб, смена часовых поясов не прошла для меня бесследно, и я хочу одного — забраться в кровать и уснуть.
Но у Лили, к несчастью, сна ни в одном глазу, и она тащит в патио коробку со своей старой одеждой, где спит наш кот Джунипер. Лили любит наряжать Джунипера. Она уже повязала чепчик ему на голову, а теперь пытается натянуть рукав на его переднюю лапку. Наш старый добродушный кот, безразличный ко всем унижениям в виде кружавчиков и рюшечек, как и всегда, стоически терпит мучения.
Пока Джунипер страдает во имя моды, я приношу в патио скрипку с пюпитром и открываю ноты с цыганскими мотивами. И опять из книги выскальзывает листок и падает у моих ног лицевой стороной вверх. «Incendio».
Я не заглядывала в ноты со времени их покупки в Риме, и теперь, прикрепляя листок к пюпитру, вспоминаю сумрачный антикварный магазин и хозяина, который, словно некое пещерное существо, прячется в нише. У меня вдруг кожа покрывается мурашками, словно прохлада того магазина все еще сохранилась в нотах.
Я беру скрипку и начинаю играть.
Воздух сегодня влажный, и инструмент звучит лучше, сочнее, чем обычно, тональность мягкая и теплая. Первые тридцать два такта вальса, как я и предполагала, прекрасны: скорбный баритональный плач. Но с сорокового такта начинается ускорение. Мелодия выворачивается и закручивается, сбивается диезами и бемолями, воспаряет до седьмой позиции на струне ми. От напряжения пот катится по лицу — я стараюсь не сбиться и в то же время поддерживать темп. Возникает впечатление, будто смычок начинает жить сам по себе, двигается как заколдованный, а я с трудом удерживаю его в руке. Ах, какая великолепная музыка! Какой будет замечательный концертный номер, если мне удастся его освоить. Стремительно несутся ноты. Внезапно я сбиваюсь, начинаю фальшивить, музыка пускается вскачь, и левую руку схватывает судорога.
Я чувствую ручонку у себя на ноге. Что-то теплое и влажное пачкает мою кожу.
Я перестаю играть и опускаю взгляд. Лили смотрит на меня, ее глаза чисты, как небесная бирюза. И даже когда я подпрыгиваю в страхе и выхватываю садовый инструмент из ее окровавленных пальцев, ничто не туманит ее спокойных голубых глаз. Ее босые ноги оставляют следы на плитке патио. Со все возрастающим ужасом я иду по следам к источнику крови.
И тут из моей груди вырывается вопль.
1 Цыгане (ит.).
2 Пожар, огонь (ит.).
3 Сколько это стоит? (ит.)
2
Роб помогает смыть кошачью кровь с плиток патио. Бедный старый Джунипер, завернутый теперь в черный мешок для мусора, ждет, когда его похоронят. Мы вырыли ему могилку в дальнем углу двора, за кустом сирени, так чтобы я не видела ее каждый раз, выходя в сад. Джуниперу перевалило за восемнадцать лет, он почти ослеп, наш старый добрый друг. Он заслуживает упокоения в чем-нибудь получше мешка для мусора, но я была слишком потрясена, и ничего умнее в голову мне не пришло.
— Это наверняка случайность, — настаивает Роб.
Он швыряет грязную губку в ведро, и вода точно по волшебству приобретает тошнотворно красноватый цвет.
— Лили, наверно, оступилась и упала на него. Слава богу, она не держала эту штуку острым концом вверх, а то могла бы и глаз себе выколоть. Или еще чего похуже.
— Я заворачивала его в мешок для мусора. Видела его тело. Там не одна колотая рана, их там три. Ты думаешь, можно оступиться и упасть три раза?
Он берет орудие убийства — прополочную вилку с острыми зубцами.
— Как она вообще попала к ней в руки?
— Я пропалывала сад на прошлой неделе. Вероятно, забыла убрать ее в сарай. — На зубцах еще видна кровь, и я отворачиваюсь. — Роб, тебя не беспокоит ее реакция на все случившееся? Она заколола Джунипера, а несколько минут спустя попросила налить ей сока. Вот что меня пугает — ее абсолютное равнодушие к собственному поступку.
— Она еще слишком мала и не понимает. В три года никто не понимает, что такое смерть.
— Но она не могла не понимать, что делает ему больно. Он, вероятно, заверещал.
— А ты не слышала?
— Я играла здесь на скрипке. Лили баловалась с Джунипером в другом конце патио. Все тихо-спокойно. Пока...
— Может, он ее поцарапал? Как-то ее спровоцировал?
— Поднимись и посмотри на ее руки. Ни царапинки. И ты сам знаешь, наш кот и мухи бы не обидел. Выдерни клок шерсти, наступи на хвост — он даже не пикнул бы. Он в жизни никого не поцарапал. Он у меня появился еще котенком, и чтобы умереть вот так...
Голос у меня срывается, и я опускаюсь на стул, обессиленная накатившей наконец волной горя и усталости. И чувства вины — ведь я не сумела защитить моего старого друга, хотя он умирал в двадцати футах от меня. Роб неловко похлопывает меня по плечу, не зная, как успокоить. Мой рациональный математический муж беспомощен, если нужно утешить плачущую женщину.
— Ну-ну, детка, — бормочет он. — Давай заведем котенка?
— Ты серьезно? После того, что она сделала с Джунипером?
— Да, пожалуй, глупое предложение. Но прошу тебя, Джулия, не вини ее. Она наверняка тоскует по нему не меньше, чем мы. Просто не понимает, что произошло.
— Мама? — кричит Лили из своей комнаты (я уложила ее поспать). — Мама!
Хотя она зовет меня, откликается Роб; он вытаскивает ее из кровати и покачивает у себя на коленях, сев в то самое кресло-качалку, в котором я когда-то кормила ее грудью. Я смотрю на них и вспоминаю вечера младенчества дочери, когда я долгими часами укачивала ее здесь в кресле и ее мягкая щечка прижималась к моей груди. Волшебные бессонные ночи, когда существовали только мы двое — я и Лили. Я заглядывала в ее глаза и шептала: «Пожалуйста, не забывай этого. Не забывай, как сильно мамочка тебя любит».
— Киски больше нет. — Лили рыдает в плечо Роба.
— Да, детка, — бормочет Роб. — Киска теперь на небесах.
— Вы считаете, такое поведение нормально для трехлетнего ребенка? — спрашиваю я педиатра неделю спустя, приехав с Лили на профилактический осмотр.
Доктор Черри обследует Лили; та смеется. Доктор пальпирует животик Лили, а потому отвечает не сразу. Похоже, он искренне любит детей, а Лили изо всех сил старается его очаровать. Она послушно поворачивает голову, чтобы он мог осмотреть ее барабанные перепонки, широко открывает рот, когда он вставляет туда ложечку. Моя хорошенькая дочка уже умеет очаровывать всех незнакомцев, с какими встречается.
Доктор выпрямляется и смотрит на меня:
— Агрессивное поведение — не обязательно повод для беспокойства. В таком возрасте дети легко озлобляются — они не умеют полностью выразить себя. А вы сами говорите, она до сих пор разговаривает преимущественно предложениями из трех-четырех слов.
— А это повод для беспокойства? То, что она говорит меньше других детей?
— Нет-нет. Возрастные вехи — понятие довольно неопределенное. Развитие детей — вещь очень индивидуальная, но развитие Лили во всем остальном в пределах нормы: рост, вес, моторные навыки. — Он сажает Лилина край смотрового стола и широко ей улыбается. — Какая же ты у нас хорошая девочка! Если бы все мои пациенты были так же терпеливы. Вы посмотрите, как она сосредоточенна, как внимательно слушает.
— А вдруг происшествие с нашим котом — только начало и она способна совершить и что-нибудь похуже, когда... — Я замолкаю, поняв вдруг, что Лили смотрит на меня и ловит каждое мое слово.
— Миссис Ансделл, — тихо говорит доктор, — отведите-ка Лили в детскую, а мы с вами поговорим у меня в кабинете.
Он, конечно, прав. Моя умненькая, внимательная дочь наверняка понимает больше, чем я могу себе представить. Я снимаю ее со смотрового стола и веду, как он и сказал, в игровую комнату для пациентов. Здесь повсюду разбросаны яркие пластиковые игрушки без острых углов и мелких частей, которые могли бы оказаться в детском рту. По полу ползает малыш возрастаЛили, толкая по ковру красный самосвал. Опускаю дочку, и она тут же направляется к низкому столику с пластиковыми чашками и чайником. Она берет чайник и наливает себе невидимый чай. Откуда она знает, как это делается? Я никогда никого не приглашала на чаепитие, но вот моя дочь демонстрирует типичное женское поведение, а мальчик тем временем фырчит, толкая машинку.
Когда я вхожу в кабинет доктора Черри, тот уже сидитза своим столом. Через смотровое окно мы видим двух детей в соседней комнате; с их стороны в этом месте одностороннее зеркало, а потому они нас не видят. Они играют, совершенно игнорируя друг друга, существуя в раздельных мальчишеском и девчоночьем мирах.
— Думаю, вы придаете слишком большое значение случившемуся, — говорит он.
— Ей только три года, а она убила нашего любимого котика.
— Вас прежде ничего не настораживало в ее поведении? Вы не наблюдали никаких признаков того, что девочка способна на подобные поступки?
— Абсолютно никаких. Джунипер появился у меня еще до замужества, и Лили знает его всю свою жизнь. Она никогда его не мучила.
— А что могло спровоцировать такое поведение? Она рассердилась? Что-то ее озлобило?
— Да нет, ее вроде бы все устраивало. Обстановка была такая мирная, и я позволила им дурачиться, а сама играла на скрипке.
Он задумался над последними словами.
— Насколько я понимаю, игра на скрипке требует максимальной концентрации.
— Я разучивала совершенно новую вещь. Да, я очень сосредоточилась.
— Ну вот вам и вероятное объяснение. Вы погрузилисьв свое занятие, а она хотела привлечь ваше внимание.
— Заколов нашего кота? — Я издаю недоуменныйсмешок. — Довольно радикальный способ привлечь моевнимание.
Я вижу мою золотоволосую дочку сквозь смотровое окно — она так красиво восседает на собственном вымышленном чаепитии. Мне не хочется задавать следующий вопрос, но я не могу его не задать.
— Я читала в Интернете статью о детях, которые мучают животных. Это считается очень плохим знаком. Может свидетельствовать о серьезных эмоциональных проблемах у ребенка.
— Поверьте мне, миссис Ансделл, — доброжелательно улыбается доктор, — Лили не вырастет серийным убийцей. Вот если бы она постоянно мучила животных или в семье в прошлом имели место случаи насилия, тогда я бы выразил большую озабоченность.
Я ничего не отвечаю, и он хмурится.
— Вы хотели чем-то поделиться со мной? — без нажима спрашивает он.
Набрав в грудь побольше воздуха, я говорю:
— В семье в прошлом имели место случаи душевного заболевания.
— По линии вашего мужа или по вашей?
— По моей.
— Не помню ничего подобного в медицинской карточке Лили.
— Я никогда об этом не говорила. Не думала, что подобные вещи могут повторяться в семье.
— Какие вещи?
Я отвечаю не сразу, потому что, с одной стороны, не хочу лгать, а с другой — не хочу открывать ему больше, чем необходимо. Не хочу чувствовать себя потом неловко. Я смотрю через окно в соседнюю комнату на мою хорошенькую дочку.
— Это случилось вскоре после рождения моего брата. Мне тогда было всего два года, и сама я ничего не помню. Подробности я узнала уже потом, от моей тетушки. Она сказала, у моей матери случилось что-то вроде нервного срыва и ее пришлось отправить в больницу, так как врачи считали, что она может быть опасна для окружающих.
— Судя по времени срыва, мы имеем дело с постнатальной депрессией или психозом.
— Да, я слышала, матери поставили именно такой диагноз. Ее диагностировали несколько психиатров, и все они пришли к выводу о ее невменяемости и невозможности привлечения к суду за случившееся.
— А именно?
— Мой брат... мой новорожденный брат... — Я начинаю говорить тише, шептать. — Она его уронила, и он умер. Врачи сказали, она тогда не отвечала за свои поступки. Слышала голоса.
— Глубоко вам сочувствую. Вероятно, ваша семья пережила тогда нелегкое время.
— Не могу даже себе представить, как мучился мой отец, потерявший ребенка. А потом еще и жену — ее изолировали.
— Вы сказали, ее поместили в больницу. Она потом поправилась?
— Нет. Она умерла там два года спустя от воспаления аппендикса. Я ее в общем-то и не знала, но теперь я о ней все время думаю. И спрашиваю себя: может быть, Лили... то, что она сделала с нашим котом...
Теперь он понимает мои опасения. Вздыхает и снимает очки.
— Уверяю вас, никакой связи тут нет. Генетика насилия гораздо сложнее, чем наследование Лили ваших светлых волос и голубых глаз. Мне известны лишь несколько подтвержденных случаев наследования такой склонности. Например, в Голландии есть семья, в которой почти все мужчины получили сроки тюремного заключения. И мы знаем: мальчики, рождающиеся с лишней Y-хромосомой, более склонны к совершению преступлений.
— А наблюдается ли что-либо похожее у девочек?
— Девочки, конечно, тоже бывают социопатами. Но передается ли социопатия по наследству? — Он отрицательно качает головой. — Статистического подтверждения такой гипотезы, кажется, не существует.
Статистика. Мне на ум сразу же приходит Роб, который вечно приводит цифры. Мужчины питают поразительное доверие к цифрам. Они ссылаются на научные труды и цитируют новейшие исследования. Почему меня это не утешает?
— Успокойтесь, миссис Ансделл. — Доктор Черри протягивает руку и похлопывает меня по кисти. — Ваша дочь в три года абсолютно нормальная. Она обаятельная и ласковая, и вы говорите, ничего подобного прежде она не делала. Вам не о чем беспокоиться.
Когда я подъезжаю к дому тетушки Вэл, Лили спит в своем детском кресле. Время для сна необычное, но спит она глубоко, не просыпается, даже когда я поднимаю ее с сиденья. Даже во сне она крепко держит ослика, тот неизменно путешествует вместе с ней и имеет в последнее время довольно прискорбный вид — обтрепанный, обслюнявленный и, вероятно, кишащий бактериями. Бедный старый ослик — я его столько раз латала-перелатывала, что он превратился в настоящего ослика Франкенштейна, исполосованного моими неумелыми швами. Я замечаю новую прореху, из которой уже торчит набивка.
— Ай, какая она красотка, — воркует Вэл, когда я вношу Лили в дом. — Настоящий ангелочек.
— Я положу ее на твою кровать?
— Конечно. Только оставь дверь открытой, чтоб услышать, если она проснется.
Я заношу Лили в спальню Вэл и осторожно опускаю на одеяло. Несколько секунд смотрю на нее, как всегда очарованная видом моей спящей дочери. Я наклоняюсь над ней, вдыхаю ее запах, ощущаю тепло, поднимающееся от раскрасневшихся щечек. Она вздыхает во сне и бормочет: «Мама» — слово, которое всегда вызывает у меня улыбку. Слово, которое мне так мучительно хотелось услышать в течение тех горьких лет, когда я пыталась забеременеть и неизменно терпела неудачу.
— Детка, — шепчу я.
Когда я возвращаюсь в гостиную, Вэл спрашивает:
— И что сказал доктор Черри?
— Он говорит, беспокоиться не о чем.
— А я тебе что говорила? Дети и домашние животные не всегда уживаются. Ты не помнишь, но ты в два года мучила моего старого пса. Когда он наконец куснул тебя, ты тут же ударила его в ответ. Я думаю, что-то в таком роде произошло между Лили и Джунипером. Иногда дети реагируют, не думая. Не понимая, какие могут быть последствия.
Я смотрю в окно на сад Вэл, маленький рай с буйной растительностью, засаженный помидорами и огурцами, усики которых цепляются за решетку. Мой покойный отец тоже любил ее сад. Он любил готовить, декламировать стихи и петь, хотя ужасно фальшивил, как и его сестра Вэл. Они на детских фотографиях даже похожи — оба худые, загорелые, с одинаковыми мальчиковыми стрижками. В доме Вэл столько снимков моего отца, что я неизменно ухожу от нее с болью в сердце.На стене напротив меня фотографии отца десятилетним мальчишкой с удочкой. В двенадцать — с маленьким радиоприемником. В восемнадцать — в мантии выпускника школы. И всегда на лице все та же искренняя, открытая улыбка.
А на книжной полке еще одна фотография — он вместе с моей матерью, снято в тот день, когда они привезли в дом своего первенца — меня. Других фотографий моей матери в доме нет — тетушка против. А эту она пропустила по единственной причине: на ней есть я.
Я подхожу и разглядываю лица на снимке.
— Как же я на нее похожа. Только сейчас поняла.
— Да, ты на нее похожа, а она слыла настоящей красавицей. Если Камилла входила в комнату, все головы поворачивались к ней. Твоему отцу хватило одного раза взглянуть на нее — и он влюбился без памяти. У моего несчастного брата не было ни одного шанса.
— Ты ее так ненавидела?
— Ненавидела? — Вэл обдумывает мой вопрос. — Нет, я бы так не сказала. И уж определенно не поначалу. Камилла абсолютно покорила меня своим обаянием; как и всех, кто с ней сталкивался. Никогда не видела женщины, столь щедро одаренной. Красота, ум, талант. А какое чувство стиля!
— Вот уж чего я точно от нее не унаследовала, — грустно усмехаюсь я.
— Ах, детка, ты унаследовала лучшие черты обоих родителей. У тебя внешность и музыкальный талант Камиллы и щедрое сердце отца. Ты — лучшее, что случилось в жизни Майкла. Ему выпало влюбиться в нее,прежде чем ты появилась на свет, и меня это не радовало. Но, черт побери, ведь в нее влюблялись все поголовно. Она умела затягивать людей в свое силовое поле.
Я думаю о дочери, о том, как легко она обаяла доктора Черри. В три года она способна очаровать любого. Таким даром Бог меня не наделил, а Лили с ним родилась.
Возвращая фотографию родителей на полку, я спрашиваю у Вэл:
— Так что на самом деле случилось с моим братом?
Она тут же замыкается в себе и отворачивается. Ей явно не хочется продолжать разговор. Я всегда подозревала: мне чего-то недоговаривают и в истории моей матери есть что-то гораздо более темное и тревожное, да я и сама боялась спрашивать. Но сегодня решаюсь.
— Вэл? — окликаю ее я.
— Ты все знаешь, — говорит она. — Я тебе все рассказала, когда почувствовала, что ты уже выросла и сможешь понять.
— Но подробностей ты мне не сообщила.
— Кому они нужны — подробности?
— Теперь они нужны мне. — Я смотрю в сторону спальни, где спит моя дочка, моя дорогая девочка. — Я должна знать, не похожа ли на нее Лили.
— Прекрати, Джулия. Ты на ложном пути, если думаешь, что Лили хоть в чем-то похожа на Камиллу.
— Все прошедшие годы я слышала только какие-то обрывки истории о моем брате. Но я всегда чувствовала: за твоими словами кроется что-то большее, о чем ты не хочешь говорить.
— Да если даже знать все, история не станет понятнее. Даже тридцать лет спустя я не понимаю, почему она так поступила.
— А как именно она поступила?
Вэл задумалась на мгновение.
— После того случая — когда дело наконец дошло до суда — психиатры назвали ее состояние постнатальной депрессией. Твой отец тоже так считал. Хотел верить,и для него стало большим облегчением, когда ее не приговорили к тюремному заключению. К счастью для Камиллы, вместо тюрьмы ее отправили в больницу.
— Где позволили умереть от воспаления аппендикса. Вряд ли тут уместно говорить «к счастью».
Вэл по-прежнему избегает встречаться со мной взглядом. Молчание между нами сгущается, и воздух грозит окаменеть, если я не вмешаюсь.
— Ты чего-то недоговариваешь? — тихо спрашиваю я.
— Извини, Джулия. Ты права, я была с тобой не до конца откровенна. По крайней мере в том, что касается этого.
— Чего именно?
— Того, как умерла твоя мать.
— Я думала, от воспаления аппендикса. Ты и папа всегда говорили: она умерла в больнице через два года.
— Да, она умерла через два года, но не от воспаления аппендикса. — Вэл вздыхает. — Не хотела тебе говорить, но ты хочешь правды. Твоя мать умерла от внематочной беременности.
— От беременности? Но ее приговорили к изоляции как душевнобольную.
— Вот именно. Камилла так и не назвала отца, а мы так никогда и не узнали, кто он. После смерти в ее палате обнаружили всевозможную контрабанду. Алкоголь, дорогие ювелирные изделия, косметику. Я не сомневаюсь, она торговала собой, а взамен получала услуги, и инициатива исходила от нее, ведь она всегда умело манипулировала людьми.
— И все же она была жертвой. С ее психическим заболеванием.
— Да, именно так психиатры и говорили в суде. Назвали ее состояние постнатальной депрессией и психозом. Но я тебе говорю, никакой депрессией Камилла не страдала. И никаким психозом. Она просто скучала. И отличалась мстительностью. И ей надоел твой братишка: у него болел животик и он все время плакал. Она всегда хотела быть в центре внимания и привыкла к тому, что мужчины готовы перебить друг друга, лишь бы сделать ее счастливой. Камилла считала себя золотой девушкой и знала, что всегда добьется своего, но вот оказалась женой, привязанной к двум детям, которых никогда не хотела. В суде она сказала, что ничего не помнит, но один сосед все видел, и он дал показания. Он видел, как Камилла вынесла на балкон твоего братика. Видел, как она намеренно перебросила младенца через перила. Не выронила его, а выбросила с высоты двух этажей на землю. Хорошенького трехнедельного мальчика с голубыми глазками, как у тебя. Слава богу, я в тот день сама с тобой нянькалась. — Вэл набирает в грудь побольше воздуха. — Иначе и ты, возможно, отправилась бы следом за братом.
3
Дождь молотит в окно моей кухни, его водянистые пальцы скользят по стеклу, а мы с Лили готовим на завтра овсяную кашу и печенье с изюмом для ее детсадовского праздника. В эпоху, когда, кажется, у каждого ребенка аллергия то на яйца, то на глютен, то на орехи, готовку печенья можно приравнять к диверсии, я словно пеку отравленные кружочки для хрупких деточек. Другие матери, вероятно, делают здоровые закуски, какие-нибудь фруктовые дольки или свежую морковку, а я замешиваю масло и яйца, муку и сахар, получаю вязкое тесто, и мы с Лили лепим из него комочки и выкладываем на противень. Я достаю теплое, ароматное печенье из духовки и ставлю перед Лили две штуки и стакан с яблочным соком — ее полдник. Вкуснота, сахар. Какая же я плохая мать.
Она с удовольствием принимается за еду, а я сажусь перед пюпитром. Я уже несколько дней почти не вынимала скрипку из футляра, и мне нужно подготовиться к следующей репетиции. Скрипка ложится на плечо, как старый друг, а когда я настраиваю инструмент, дерево звучит сочно, с шоколадной густотой, словно требуя для разогрева чего-то медленного и мелодичного. Я откладываю в сторону партитуру квартета Шостаковича, который собиралась разучивать, а вместо него прикрепляю к пюпитру «Incendio». Фрагменты вальса всю неделю звучали у меня в голове, а сегодня утром я проснулась с непреодолимым желанием услышать его еще раз, утвердиться во мнении, что не ошиблась и он прекрасен.
О да, так и есть. Печальный голос моей скрипки словно поет о разбитых сердцах и утраченной любви, о темных лесах и холмах, населенных призраками. Потом печаль переходит в волнение. Лейтмотив не изменился, но теперь ноты ускоряются, перемещаются по звукоряду на струнеми, где убыстряются до целого ряда арпеджио. Мой пульс несется вперед вместе с безумным ритмом. Я пытаюсь выдерживать темп, пальцы спотыкаются друг о дружку. Руку сводит судорога. Неожиданно ноты начинают звучать фальшиво, дерево гудит, словно вибрируя на какой-то запредельной частоте, от которой мой инструмент вот-вот расколется и распадется на части. Но я не сдаюсь, сражаюсь со своей скрипкой, пытаюсь подчинить ее себе. Гудение становится громче, мелодия срывается на визг.
Но я слышу собственный крик.
Я охаю от боли и смотрю на свое бедро. На сверкающий осколок стекла, торчащий из моей плоти, точно хрустальный кинжал. За собственными рыданиями я слышу чей-то голос, он раз за разом распевает три слова, голос звучит так бездушно, так механически — я его почти не узнаю. И, только увидев, как двигаются ее губы, я понимаю, что слышу голос моей дочери. Она смотрит на меня глазами спокойной, неземной голубизны.
Я делаю три глубоких вдоха, чтобы набраться мужества, и хватаюсь за осколок стекла. С криком боли извлекаю его из тела. По ноге струится алая кровяная ленточка. Дальше я уже ничего не вижу, дальше опускается темнота: я теряю сознание.
Сквозь туман болеутоляющих я слышу, как муж по другую сторону занавески в отделении скорой помощи разговаривает с Вэл. Голос его прерывается, он, похоже, несся в больницу бегом, и теперь Вэл пытается его успокоить.
— Ничего страшного, Роб. Ей наложили швы и сделали противостолбнячную прививку. И еще у нее шишкана лбу — ударилась о журнальный столик во время падения. Но когда пришла в себя, позвонила мне — попросила о помощи. Я сразу же приехала и привезла ее сюда.
— Так ничего серьезного нет? Вы уверены, что она просто упала в обморок?
— Если ты видел кровь на полу, то тебе должно бытьясно, почему она грохнулась. Рана была довольно страшная и чертовски болезненная. Но доктор из скорой помощи сказал, рана на вид довольно чистая и опасности заражения нет.
— Так я заберу ее домой?
— Да, конечно. Вот только... — Вэл переходит на шепот: — Я волнуюсь за нее. В машине она сказала...
— Мамочка? — Я слышу хныканье Лили. — Хочу к мамочке.
— Ш-ш-ш, детка, мамочка отдыхает. Шуметь нельзя. Нет, Лили, побудь здесь. Лили, нельзя!
Занавеска отлетает в сторону, и я вижу ангельское личико моей дочери, она тянется ко мне. Я отшатываюсь, от ее прикосновения меня бросает в дрожь.
— Вэл! — кричу я. — Пожалуйста, забери ее.
Тетушка обхватывает Лили руками.
— Она сегодня переночует у меня, хорошо? Ну-ка, Лил, давай сегодня поспишь у меня.
Лили тянется ко мне, хочет меня обнять, но я отворачиваюсь, я боюсь посмотреть на нее, боюсь увидеть нездешний взгляд ее голубых глаз. Вэл уводит мою дочь из палаты, а я лежу неподвижно на боку. Мое тело словно погружено в такую толстую ледяную оболочку, что кажется, я никогда ее не разобью и не выберусь на свободу. Роб стоит рядом, гладит мои волосы, но я даже не чувствую его прикосновения.
— Детка, давай я отвезу тебя домой? — говорит он. —Закажем пиццу, проведем тихий вечер вдвоем. У нас давно не было таких вечеров.
— История с Джунипером не случайность, — шепчу я.
— Что?
— Она напала на меня, Роб. Напала осознанно.
Его рука замирает на моей голове.
— Может быть, тебе просто показалось. Ей же всего три года. Она слишком мала, она даже не понимает, что сделала.
— Она взяла осколок стекла и вонзила мне в ногу.
— А как осколок оказался у нее?
— Утром я разбила вазу, осколки выбросила в мусорное ведро. Она, видимо, залезла туда и нашла их.
— И ты не видела, как она их доставала?
— Мне почему-то кажется, ты меня в чем-то обвиняешь.
— Я... я просто пытаюсь понять, как такое могло произойти.
— А я тебе говорю о случившемся факте. Она сделала это намеренно. И так мне и сказала.
— Что она тебе сказала?
— Три слова. Она их повторяла снова и снова, нараспев. «Мамочке сделать бо-бо».
Он смотрит на меня как на сумасшедшую, словно я сейчас вскочу с кровати и наброшусь на него, ведь ни одна нормальная женщина не должна бояться своего трехлетнего ребенка. Он отрицательно покачивает головой, не зная, как объяснить сцену, которую я описала. Даже Робу не по силам решить предложенное ему уравнение.
— Зачем? — спрашивает он наконец. — Она сейчас плакала — просилась к тебе, пыталась тебя обнять. Она тебя любит.
— Я больше ни в чем не уверена.
— Когда ей больно, когда ей плохо, кого она зовет? Всегда тебя. Ты — центр ее вселенной.
— Она слышала мой крик. Видела мою кровь и ничуть не испугалась. Я заглянула в ее глаза и не нашла там любви.
Роб не в силах скрыть недоумение — оно написано наего лице, очевидное как божий день. С таким же успехом я могла бы ему сказать, будто у Лили отросли клыки.
— Знаешь, детка, отдохни-ка немного. А я поговорю с медсестрой, спрошу, когда тебя можно забрать домой.
Он выходит из палаты, а я в изнеможении закрываю глаза. От анальгетиков у меня туман в голове, и хочется одного — крепко уснуть, но в отделении скорой помощи вечная суета, все время звонят телефоны, из коридора доносятся голоса. Я слышу поскрипывание колесиков медицинской каталки в коридоре, а вдали в какой-то палате плачет младенец. Судя по звуку, совсем крохотный. Я вспоминаю вечер, когда привезла сюда Лили, ей было тогда всего два месяца, и у нее поднялась температура. Я помню ее горячие, раскрасневшиеся щеки, помню, как она лежала на смотровом столе неподвижная, совершенно неподвижная и безмолвная. Что и испугало меня больше всего — она не плакала. И мое сердце вдруг начинает томиться по ней, по той Лили, которую я помню. Я закрываю глаза и ощущаю запах ее волос, чувствую свои губы на ее покрытом пушком темечке.
— Миссис Ансделл? — раздается голос.
Я открываю глаза и вижу бледного молодого человека рядом с моей каталкой. На нем очки в проволочной оправе и белый халат. На беджике написано «Доктор Эйзенберг», но, кажется, он слишком молод, чтобы быть дипломированным врачом. Судя по его виду, он и школу-то еще не закончил.
— У меня сейчас был ваш муж. Он попросил меня поговорить с вами о том, что случилось сегодня.
— Я уже все рассказала другому доктору — забыла его имя.
— Вы говорите о враче скорой помощи. Он занимался вашей раной. А я хочу поговорить о том, как вы ее получили и почему считаете виноватой вашу дочь.
— Вы педиатр?
— Я врач-стажер, моя специализация — психиатрия.
— Детская психиатрия?
— Нет, взрослая. Насколько я понимаю, вы очень расстроены.
— Ясно, — устало усмехаюсь я. — Дочь вонзает мне в ногу осколок стекла, а значит именно мне требуется психиатр.
— Так и было? Она вас ранила осколком стекла?
Сдвинув простыню, я показываю ему бедро — на рану недавно наложили швы, теперь она забинтована.
— Поверьте, я эти швы не выдумала.
— Я читал записи доктора скорой помощи: у вас серьезная рана. А шишка на лбу — она откуда?
— Упала в обморок. От вида крови мне становится плохо. Кажется, я ударилась головой о журнальный столик.
Он пододвигает к каталке стул и садится. У него длинные ноги и тощая шея, и мне кажется, что рядом со мной примостился журавль.
— Расскажите про вашу дочь Лили. Ваш муж говорит, ей три года.
— Да. Всего три.
— Прежде она ничего такого не делала?
— Был еще один случай. Недели две назад.
— История с котом. Да, ваш муж мне рассказал.
— Значит, вам известна наша проблема. Случай уже не первый.
Врач наклоняет голову, будто я какое-то необычное новое существо, которое он пытается идентифицировать.
— Кто-нибудь, кроме вас, замечал за ней подобное поведение?
Его вопрос настораживает меня. Уж не думает ли он, что тут все дело в интерпретации? И кто-нибудь другой увидел бы что-то совершенно иное? Он вполнеестественно считает трехлетнего ребенка невинным. Несколько недель назад я сама бы не поверила, что моя дочь, с которой мы столько обнимались-целовались, способна на насилие.
— Вы ведь не видели Лили? — спрашиваю я.
— Нет. Но ваш муж говорит, у вас очень счастливая, обаятельная девчушка.
— Так и есть. Все, кто ее знает, говорят, какая она прелесть.
— А что видите вы, когда смотрите на нее?
— Она моя дочь. Конечно, я вижу во всех смыслах идеальную девочку. Но...
— Но?
Комок встает в горле, я перехожу на шепот:
— Она другая. Она изменилась.
Он ничего не говорит — делает запись в своем блокноте. Бумага и авторучка — как старомодно, все остальные врачи, с которыми я встречаюсь в последнее время, неизменно пользуются ноутбуками. Почерк у него такой мелкий — будто муравей бежит по бумаге.
— Расскажите, как проходили роды. С осложнениями? С трудностями?
— Роды были долгие — восемнадцать часов. Но все прошло прекрасно.
— А как вы к этому отнеслись?
— Вы имеете в виду, если отбросить в сторону усталость?
— Я имею в виду эмоциональную сторону. Когда впервые ее увидели. Когда впервые взяли на руки.
— Вы спрашиваете, существует ли между нами связь? Хотела ли я ее?
Он смотрит на меня — ждет, когда я отвечу на собственные вопросы. Насколько я понимаю, его вопрос — своего род тест Роршаха, и я повсюду вижу минные поля. Если я скажу что-нибудь неправильное, то стану плохой матерью?
— Миссис Ансделл, — мягко говорит он, — любой ваш ответ будет правильным.
— Да, я хотела дочь! — выпаливаю я. — Мы с Робом много лет хотели ребенка. День рождения Лили — лучший день в моей жизни.
— Значит, вы были рады ее рождению.
— Конечно, я была рада! И... — Я на секунду замолкаю. — И немного испугана.
— Почему?
— На меня внезапно свалилась ответственность за маленького человечка, имеющего собственную душу. Человечка, которого я еще не знала.
— И что вы увидели, когда посмотрели на нее?
— Хорошенькую маленькую девочку. Десять пальчиков на руках, десять — на ногах. Волосиков — почти никаких, — добавляю я с задумчивым смешком. — Но во всем остальном идеальная.
— Вы сказали про человечка с собственной душой, которого вы еще не знаете.
— Ведь новорожденные — чистый лист, никто не знает, что из них получится. Будут ли они тебя любить. А ты можешь только ждать и наблюдать, как они растут.
Он снова делает запись в блокноте. Я определенно произнесла что-то показавшееся ему интересным. О новорожденных и душах? Я ничуть не религиозна и понятия не имею, почему такие слова сорвались с моего языка. Я поглядываю со все возрастающим беспокойством, спрашиваю себя, когда кончится мое испытание. Действие местной анестезии заканчивается, и рана начинает болеть. Пока психиатр неторопливо записывает про меня бог знает что, я проникаюсь отчаянным желанием бежать от неистового сияния ламп.
— И какая, по-вашему, у Лили душа? — спрашивает он.
— Не знаю.
Он смотрит на меня, вздернув брови, и я понимаю, что он ждал другого ответа. Нормальная, любящая мать утверждала бы: у нее нежная, или добрая, или невинная дочь. Мой ответ оставляет открытыми иные, более темные возможности.
— И каким она была младенцем? — спрашивает он. — Животик болел? Проблемы с кормлением или сном не возникали?
— Нет, она почти не плакала. Всегда такая довольная, всегда улыбчивая. Всегда хотела обниматься. Я не подозревала, что материнство — такое легкое дело, никаких трудностей я не испытывала.
— А когда она подросла?
— Никаких ужасов в два года. Она росла идеальным ребенком до того момента, пока... — Я смотрю на простыню, которой укрыта моя раненая нога, и голос мой стихает.
— Как вы думаете, почему она напала на вас, миссис Ансделл?
— Не знаю. День у нас прошел замечательно. Мы вместе пекли печенье. Она сидела за журнальным столиком, пила сок.
— И вы думаете, она достала осколок стекла из мусорного ведра?
— Вероятно, оттуда.
— Вы этого не видели?
— Я играла на скрипке. Смотрела в ноты.
— Ах да, ваш муж сказал: вы профессиональный музыкант. Вы играете в оркестре?
— Я вторая скрипка в квартете. У нас женский ансамбль. — Он всего лишь кивает, и я чувствую, что должна добавить: — Несколько недель назад мы выступали в Риме.
Кажется, мои слова производят на него впечатление. Выступления за рубежом всегда производят впечатление на людей, пока они не узнают, какие гроши мы получаем.
— Я целиком погружаюсь в музыку, когда играю, — поясняю я. — Поэтому, наверное, я и не заметила, как Лили встала и пошла на кухню.
— Как вы думаете, она злится, когда вы играете? Дети часто не любят, когда мамы разговаривают по телефону, работают на компьютере, они хотят, чтобы мама все свое время отдавала им.
— Никогда прежде это не вызывало у нее протеста.
— А на сей раз не было какого-то отличия? Может, вы больше погрузились в свои занятия, чем обычно?
На секунду я задумываюсь:
— Да, музыка и в самом деле меня захватила. Новая вещь и очень сложная. У меня проблемы со второй частью.
Я замолкаю, мысленно возвращаюсь к трудностям, с которыми столкнулась, пытаясь сыграть тот вальс. Как сводило судорогой мои пальцы, когда все подряд зловредные ноты отказывались меня слушаться! «Incendio» переводится с итальянского как «огонь», но пальцы у меня леденеют.
— Миссис Ансделл, вас что-то взволновало?