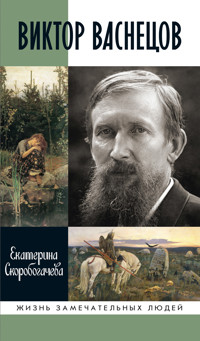
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Жизнь замечательных людей
- Sprache: Russisch
Виктор Васнецов — историко-религиозный живописец, иконописец, график, архитектор, театральный художник, коллекционер. Творческая многогранность, обращение к национальным корням прославили его во всем мире как многоликого «певца» Древней Руси. Круг его общения составляли император Николай II и великий князь Сергей Александрович, Павел Третьяков и Савва Мамонтов, Павел Чистяков и Илья Репин, Федор Шаляпин и Михаил Нестеров. Яркость таланта сочеталась в нем с исключительной скромностью. Живя в Петербурге и Москве, он оставался все тем же вятичем, сыном сельского священника, всегда предпочитавшим официальным церемониям и многоречивым собраниям семейный круг и тишину мастерской. О Викторе Васнецове писали многие, но никто не сказал о его искусстве лучше, чем он сам: «Я, как Православный и искренно верующий Русский, не мог хоть копеечную свечку не поставить Господу Богу. Может быть, свечка эта и из грубого воску, но поставлена она от души»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Екатерина Скоробогачева
ВИКТОР ВАСНЕЦОВ
СВЕЧА ЖИЗНИ
МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023
Информацияот издательства
Скоробогачева Е. А.
Виктор Васнецов: Свеча жизни / Екатерина Скоробогачева. — М.: Молодая гвардия, 2023. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1954).
ISBN 978-5-235-04783-9
Виктор Васнецов — историко-религиозный живописец, иконописец, график, архитектор, театральный художник, коллекционер. Творческая многогранность, обращение к национальным корням прославили его во всем мире как многоликого «певца» Древней Руси. Круг его общения составляли император Николай II и великий князь Сергей Александрович, Павел Третьяков и Савва Мамонтов, Павел Чистяков и Илья Репин, Федор Шаляпин и Михаил Нестеров. Яркость таланта сочеталась в нем с исключительной скромностью. Живя в Петербурге и Москве, он оставался все тем же вятичем, сыном сельского священника, всегда предпочитавшим официальным церемониям и многоречивым собраниям семейный круг и тишину мастерской. О Викторе Васнецове писали многие, но никто не сказал о его искусстве лучше, чем он сам: «Я, как Православный и искренно верующий Русский, не мог хоть копеечную свечку не поставить Господу Богу. Может быть, свечка эта и из грубого воску, но поставлена она от души».
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
16+
© Скоробогачева Е. А., 2023
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2023
Мое искусство — это свеча, зажженная перед ликом Божьим1.
В. М. Васнецов
ВВЕДЕНИЕ
И свет во тьме светит, И тьма не объяла Его.
Евангелие от Иоанна (1:5)
В тишине майских московских переулков, близ Сухаревой башни и подворья Троице-Сергиевой лавры, из дома художника Виктора Михайловича Васнецова разливались музыкальные аккорды, звучал неповторимый голос Федора Ивановича Шаляпина, который, приехав в гости к известному автору сказочных, религиозных, исторических картин, не мог отказать ему в просьбе — выступить с импровизированным концертом. Его слушали хозяин дома, его семья: супруга и дети, многочисленные гости: семьи Третьяковых, Поленовых, Мамонтовых, а также живописцы Илья Репин, Василий Суриков, Валентин Серов, Константин Коровин.
Прохожие останавливались послушать у настежь открытых окон, ибо творческие «четверги» Васнецовых славились в округе с конца 1890-х годов. Ныне, когда прошло более столетия, все так же сохраняется «сказочный» дом Виктора Васнецова, хранящий воспоминания о яркой личности его хозяина, старине Руси и «взлете» отечественного искусства на рубеже XIX—XX столетий.
Виктор Михайлович Васнецов — северянин, родился и вырос на северных землях и хотя в юные годы учился в Петербурге, путешествовал по Европе, жил в Москве. При этом во многом оставался все тем же северянином, выходцем из древней Вятской земли, вобравшим в свою жизнь характер, мировоззрение, ее традиции и предания, исконную веру и духовные основы, суровость долгих зим в соединении с радостной многокрасочностью летней поры, во многом определявших смысловую наполненность и колористический строй его произведений. Он был художником Севера и всей России — вдохновенным, тонким и сильным глубинами своего сложного внутреннего мира, отражающего вековой опыт поколений, историческую память, духовные, художественные достижения народа.
В многоречивом и шумном центре современной Москвы, если совсем немного отдалиться от Сухаревской площади и привычного гула Садового кольца, пройти по старинным извилистым переулкам можно увидеть причудливый деревянный дом Виктора Васнецова, подобный терему, напоминающий и о Севере, и о древнерусской старине, и о неорусском стиле рубежа XIX–XX столетий. Если он и не совсем «сказочен», то, бесспорно, неповторим, особенно поздней весной, переходящей в наряд летней поры, в окружении бело-облачных вишен и терпкого запаха черемух, резных орнаментов кленовой листвы и пестроты тюльпанов, дополняющих его убранство изысканностью мая, столь щедрого на контрасты и оттенки цвета.
Около столетия назад, каждый год именно в середине мая, дом-терем становился особенно многолюден — к 15 мая на празднование дня рождения его хозяина приезжали многочисленные гости. Здесь жил живописец и график, архитектор и мастер декоративно-прикладного искусства, бесконечно преданный искусству, своим близким, Отечеству и его многовековым традициям — выдающийся и вместе с тем бесконечно скромный художник Виктор Васнецов.
Впервые приехав в златоглавую столицу совсем юным человеком, он был поражен ее древними образами мечтал поселиться здесь и писал тогда: «Я как в Москву попал, понял, что некуда мне больше ехать… Москва, ее старина, ее архитектурные памятники учили меня чувствовать, понимать наше прошлое». Свою мечту со свойственными ему упорством и целеустремленностью он воплотил в жизнь. Спустя десятилетия, в 1894 году, по проекту Виктора Васнецова, завершилось строительство его дома — произведение искусств, памятник зодчества, вдохновенный образ его жизни, отразивший духовные богатства истинного художника, гражданина, а прежде всего, содержание достойного человека.
Глава первая
СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ ЖИЗНИ
Что такое добро и зло? Смерть и возрождение духа2.
В. М. Васнецов
Васнецов — былинный богатырь русской живописи… В наше время его творчество еще драгоценней и необходимей…3.
И. С. Глазунов
В золотистом мерцании свечи иконописные лики в красном углу казались особенно таинственными, почти живыми: Спаситель, Божия Матерь, Иоанн Предтеча, святитель Николай, Собор всех святых. На бревенчатые стены в доме Васнецовых, в северном селе Рябове близ древнего города Вятки, ложились причудливые узоры полутонов, отблески света играли на окнах, за которыми открывался вид на просторы вятских земель, подернутые пеленой сиреневых быстро сгущавшихся сумерек.
Виктору Васнецову исполнилось 10 лет. Он отошел от окна и вновь присел к столу за книгу — готовился к поступлению в Вятское духовное училище. В полумраке весеннего вечера читать становилось трудно, пришлось зажечь лучину, закрепленную в светце-поставце. Как сельский житель Виктор представлялся довольно необычным мальчиком: хрупкого сложения, с обостренной восприимчивостью окружающего мира, с ранимо-любящей душой. Обладая несомненным талантом к рисованию и живописи, он выбрал для себя путь духовного служения, следуя и советам отца, и семейной традиции: все Васнецовы по мужской линии принадлежали к церковным кругам. Не по годам рассудительный Виктор отличался прямотой нрава и исключительной силой духа — теми качествами, которые особенно ценились в их семье и не раз помогали ему в жизненных перипетиях.
Для семьи Васнецовых, из представителей которой наиболее известен ныне именно Виктор Михайлович, Русский Север, а также северное пограничье, древние заповедные земли, сыграли исключительную роль. По одной из версий, Вятский край — их родина. Род Васнецовых известен с древних времен. Возможно, их предками являлись новгородцы, переселившиеся на северо-восток, где проживали чудь, вотяки, черемисы. Здесь выходцев из Великого Новгорода называли ушкуйники (от слова «ушкуй» — большая ладья). В середине XV века они заложили на Севере три города: Котельнич, Орлов и Хлынов (Вятку). Возможно, что именно из Хлынова происходили предки Васнецовых, будучи уже коренными вятичами.
Виктор Васнецов связывал этимологию своей фамилии с именем Василий. Уже став известным художником, он рассказывал: «Происхождение моей фамилии совершенно русское — как и я сам. Жил-был в старые годы в нашей стороне Василий — по обычному сокращению Вася. Дети его и вообще домочадцы и родичи прозывались — по обычаю же — Васины. Главный в роде стал называться Васин. А его домочадцы и родичи звались Васинцы (Васинец — значит из дома или рода Васина…). Следующие поколения уже стали прозываться Васинецовы — фонетически правильно произнести, выбросив “и”, — Васнецовы»4.
Также возможно, что этимология «Васнецов» основана на измененном произношении имени Василий: Васка — Васкец — Васкецов, и сначала звучала как Васкецов. Первое упоминание их фамилии в официальных документах относится к 1628 году. В XVII веке в селе Ошеть Хлыновского уезда Вятской провинции Казанской губернии в Спасской церкви служил дьякон Дмитрий Васнецов, после которого все мужчины этого рода становились священниками, как и отец Виктора Михайловича — Михаил Васильевич (1823—1870).
Известен также псаломщик вятского Успенского Трифонова монастыря Дмитрий Кондратьев сын Васнецов, который в 1678 году упомянут в числе других священнослужителей. Однако, согласно другой версии, корни их рода происходят из Перми Великой, где в переписной книге под 1678 годом среди жителей погоста Ныроб[1] Чердынского уезда упоминаются церковники Васкецовы. При этом в качестве родового гнезда вновь называется Вятская земля — село Ошеть Нолинского уезда[2]. Если этимология и биографические данные первых представителей их семьи не бесспорны, то, несомненно, что фамилия Васнецовы была широко распространена среди вятичей, в том числе среди вятских мастеров. Друг Виктора Васнецова журналист Владимир Людвигович Дедлов писал о сибирских вятичах-переселенцах: «…в одном из поселений встретились нам вятичи, любители и мастера строиться. Посреди села собрался многолюдный сход… В каждом вятском селе, должно быть, Чарушниковых, Васнецовых и Хохряковых много. Чарушниковы, Васнецовы и Хохряковы в живописи такие же искусники, как и в плотницком деле. Они просили позволения по-своему расписать иконостас, выкрашенный под дуб: “Мы сами сделаем. Весь мы его позеленим, как вот молодая трава бывает, а столбики розаном пустим”»5. Пройдут годы, и Виктор Васнецов с таким же воодушевлением будет расписывать цветочными мотивами клиросы храма Спаса Нерукотворного в Абрамцеве, ставшим одним из лучших образцов неорусского стиля и соборности творческой работы.
Отец будущего художника Михаил Васильевич Васнецов, следуя семейной традиции, в 1844 году после окончания семинарии служил священником в Троицкой церкви села Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии, а также стал наставником сельского училища. Был Михаил Васильевич и пейзажистом: писал небольшого размера этюды родной Вятской земли. Образ Михаила Васильевича не сохранили ни фотографии, ни натурные портреты. Известна только зарисовка, выполненная по памяти Виктором Михайловичем уже после кончины отца — почти профильное изображение священнослужителя средних лет с несколько склоненной головой, вдумчивым спокойным взглядом, удлиненными, слегка волнистыми волосами[3]. Таким он и запомнился сыну — быть может, только что прервавшим чтение или работу над пейзажным этюдом. Будучи глубоко верующим православным человеком, Михаил Васильевич воспринимал творчество как служение Господу, произведения искусства — как явление Божьего мира людям, приобщение к нему, к его духовным смыслам, как подобие Сотворения мира. Годы спустя его выросшие сыновья во многом будут разделять его взгляды, будь то изобразительное искусство, которому «служили» Виктор и Аполлинарий[4], декоративно-прикладное творчество, чем занимался Аркадий, искусство слова, с которым была связана жизнь Александра и Николая или искусство возделывать землю и получать в непростых условиях высокие урожаи, чему посвятил свою деятельность Петр.
В 1845 году у него с женой Аполлинарией Ивановной Кибардиной родился сын Николай, а 15 (по старому стилю 3) мая 1848 года второй ребенок — Виктор. В метрической книге Троицкой церкви села Лопьял имеется соответствующая запись:
«По указу его Императорского Величества Вятская Духовная Консистория сим свидетельствует, что в метрической книге Уржумского уезда села Лопьяльского за тысяча восемьсот сорок восьмой (1848) год под № 46 значится родившимся и крещеным 6-го мая села Лопьяльского Троицкой церкви у священника Михаила Васильевича Васнецова и законной его жены Аполлинарии Ивановой, обоих православного исповедания, сын Виктор. Воспринимали: города Уржума купец Тимофей Андреевич Котенов и Нелинской округи села Талоключинского вдова священническая жена Ольга Александровна Васнецова; Таинство крещения совершал священник Андрей Григорьев Верещагин с диаконом Григорием Поповым и Причетниками Алексеем Чермных и Михаилом Скарданицким»6.
Довольно необычное по звучанию для русского языка название селения — Лопьял — имеет марийское происхождение, означает «плоская равнина». Марийцы говорят на финно-угорском языке, сложном по написанию, очень самобытном фонетически. Когда Виктору было около двух лет, семья Васнецовых переехала в село Рябово, известное с 1754 года. Но и в середине XIX века село оставалось совсем небольшим: согласно спискам населенных мест 1859—1873 годов, здесь числилось всего шесть дворов. Центр Рябово по древнерусской традиции почитался православный храм, деревянный, возведенный в 1757 году и освященный в честь Рождества святого Иоанна Предтечи. Селение было окружено дремучими еловыми лесами, простиравшимися на многие версты. Рядом протекала речка Батариха, к живописной долине которой многократно будут обращаться в своих произведениях художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы.
Всего в семье священника Михаила Васнецова было шестеро детей, все мальчики: Николай, Виктор, Аркадий, Петр, Аполлинарий и Александр. В исполнении Виктора Васнецова сохранились портреты брата Аполлинария (1878. Х., м. ГТГ; 1879. Х., м. ДМВ; 1871. Б., гр. кар. ДМВ)[5], братьев Аркадия (1919. Х., м. ДМВ) и Николая (1871. Б., гр. кар. ДМВ)7 и некоторые другие.
Старший из братьев Васнецовых, Николай Михайлович (1845—1893) известен как учитель и как автор книги «Материалы для объяснительного Областного Словаря вятского говора», которая была издана в 1908 году Губернским статистическим комитетом.
Деятельность Петра Михайловича (1852—1899) была связана и со сферой образования, он также учительствовал, и с возделыванием родных вятских земель: всю жизнь Петр Васнецов провел на Севере, работая агрономом.
Помимо Виктора и Аполлинария, отношение к искусству имел и Аркадий Михайлович (1858—1924) — художник по мебели, писатель, многие годы работавший служащим городской управы. В Вятке у него была собственная мебельная мастерская, по рисункам Виктора и Аполлинария он создавал мебель в духе старины. Дочь Аркадия, Людмила[6], училась игре на фортепьяно в Московской консерватории, любила гостить в доме Виктора Михайловича в Москве и, как гласит семейное предание, именно ее внешность вдохновляла художника при создании образов сказочных царевен.
Александр Михайлович (1861—1927), младший из шестерых братьев получил признание как фольклорист. Окончив в 1876 году Вятскую земскую учительскую семинарию в ее первом выпуске, он получил звание народного учителя. Вместе с ним учился брат Петр; а в 1878-м здесь же завершил учебу Аркадий. Образ юного Александра известен благодаря живописному этюду кисти Виктора Васнецова, исполненному им по памяти в 1882 году[7]. Он изобразил брата в крестьянской красной подпоясанной кушаком рубахе, стоящим среди летнего луга, словно вспоминая о детстве и юности, о красоте столь любимых родных просторов и близости братьев к народным традициям. Александр Михайлович Васнецов служил народным учителем в селе Шурма Уржумского уезда Вятской губернии, женившись, переехал в село Лаж[8]. Александр Васнецов собрал и издал свыше 350 русских народных песен и причитаний Вятской губернии, составив из них классический сборник «Песни Северо-Восточной России» (1894), ныне ставший библиографическим раритетом. Именно им во многом были заложены современные основы изучения фольклористики.
Пройдут годы, и уже в конце XIX века современникам станет ясно, что из Васнецовых наибольшей славы, и, несомненно, заслуженной, достиг Виктор Михайлович. О себе художник писал скромно уже на закате жизни в «Автобиографии»: «Художник Виктор Мих. Васнецов родился в 1848 г. 3 мая в селе Лопьял Вятской губ. Сын священника. Образование получил в Вятской духовной семинарии»8.
Аполлинарий Васнецов, следуя за старшим, Виктором, рано увлекся рисунком и живописью, и Виктор всячески помогал ему в этом. Учась в Вятском духовном училище, Аполлинарий в 1870–1871 годах брал уроки у художника Михала Эльвиро Андриолли. Работая в Вятке над росписью Троицкого собора, помогая в этом живописцу Андриолли, сосланному на Русский Север за участие в Польском восстании 1863 года, Виктор просил его об уроках для младшего брата. «Васнецов посещал Андриолли каждое воскресенье и приносил ему на отзыв рисунки, выполненные дома, а также рисовал у него с натуры вид из окна или копировал горные и лесные ландшафты швейцарского художника А. Калама»9. Так начинался путь в искусстве для двух братьев, которым суждено было стать известными живописцами России.
Художники Васнецовы жили на «переломном» этапе развития отечественной истории и культуры. Они застали императорскую Россию, революцию, Гражданскую войну, становление новой власти. Исторические процессы словно «вплетались» в искусство, насыщали его разнообразием стилистических направлений с переходами от реалистических традиций к новаторству стиля модерн, затем к экспериментам авангардистов. Их творческие биографии сопряжены и с расцветом истинно национального творчества в рамках неорусского стиля в период правления императоров Александра III и Николая II, и с активной интернационализацией культуры в раннее советское время, а затем вновь с возвращением к народным истокам.
Очевидно, насколько по-разному складывался жизненный путь каждого из братьев Васнецовых, но исток этого пути был одним — их семья и ее корни в древней северной Вятской земле. В округе Васнецовы славились талантами и трудолюбием, о чем упоминал Федор Иванович Шаляпин, вдохновенно рассказывая о Викторе Васнецове: «Этот замечательный оригинальный русский художник родился в Вятской губернии, родине моего отца. Поразительно, каких людей рождают на сухом песке растущие еловые леса Вятки! Выходят из Вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные. Массивные духом, крепкие телом богатыри. Такими именно были братья Васнецовы. Не мне, конечно, судить, кто из братьев, Виктор или Аполлинарий, первенствовал в живописи. Лично мне был ближе Виктор. Когда я глядел на его Божью Матерь с Младенцем, с прозрачными херувимами и серафимами, я чувствовал, как духовно прозрачен, при всей своей творческой массивности, сам автор. Его витязи и богатыри, воскрешающие самую атмосферу Древней Руси, вселяли в меня ощущение великой мощи и дикости — физической и духовной. От творчества Виктора Васнецова веяло “Словом о полку Игореве”. Незабываемы на могучих конях эти суровые, нахмуренные витязи, смотрящие из-под рукавиц вдаль — на перекрестках дорог… Вот эта сухая сила древней закваски жила в обоих Васнецовых»10.
Возвращаясь к истокам этой семьи, к взаимоотношениям братьев Васнецовых нельзя не вспомнить об их детстве и тех традициях, которые были для них столь важны. В селе Рябове для семьи священника Васнецова был построен просторный деревянный дом по городским образцам — с мезонином, в пять окон[9]. Виктор Васнецов с ранних лет был покорен красотой и раздольем вятских просторов и навсегда запомнил местные обычаи: протяжные песни, задорные частушки, яркие праздничные наряды и, конечно, сами праздники.
В день престольного праздника Святителя Николая Чудотворца икону Николая Хлыновского везли по реке на лодке, украшенной разноцветными лентами. Вотяки поклонялись иконе Николая Мирликийского, по преданию, подаренной им императрицей Екатериной II. На праздник принесения иконы Николая Хлыновского вотяки приходили и из отдаленных мест, верили, что хотя Чудотворец ушел из земной жизни, чудесно является каждый год из Великой Реки[10].
Вятские земли издавна славились и народными мастерами, плотниками, художниками декоративной росписи, мастерицами-вышивальщицами. В сознании ребенка не менее яркий след оставил «Праздник свистуньи», глиняной игрушки-свистульки. Вятская дымковская игрушка, названная так по селу Дымково Вятской губернии, пестрая, радостная по цветовым сочетаниям, славилась, да и в наши дни известна, по всей России.
Виктору Васнецову Север с первых лет запомнился разговором деревьев-великанов, жаром печи в избе, народными сказаниями и ярким праздничным весельем. Известно, как в то время выглядел дом Васнецовых: обширная деревянная постройка с резными наличниками. Об этом позволяет судить гравюра, представленная в экспозиции одного из залов Дома-музея В. М. Васнецова в Москве[11]. В родном доме создавал юный Виктор свои первые художественные произведения: сначала детские рисунки, затем почти профессиональные работы. Рисовать он начал очень рано, с пяти лет. Писал в воспоминаниях, что рисовал часто, очень любил это занятие, и нередко делал изображения не только на бумаге и картоне, но даже на бревенчатых стенах родного дома углем, взятым около печки.
Аполлинарий, которому Виктор помогал в детстве, покровительствовал в юности, поддерживал во взрослой жизни, также восхищался красотой северных просторов. Многие годы спустя Аполлинарий Михайлович вспоминал: «Из окон нашего дома был виден большой лес, залегавший в верховья Рябовки… Лес находился всего в версте, даже меньше, и мы часто ходили сюда за грибами, а я — рисовать ели и пихты. Сохранился этюд масляными красками работы брата»11. Также как Виктор, словно вторя ему, Аполлинарий всю жизнь немало писал и рисовал с натуры на родных вятских землях.
Далеко не все северные работы Ап. М. Васнецова сегодня известны. Упоминания о них можно найти в неопубликованной переписке. Так, брат Александр Михайлович Васнецов писал ему: «Я, например, восхищался твоими картинами, которые ты рисовал французским карандашом, когда зимовал в селе Арханг.[12], и ты их забросил. Я до сих пор не могу забыть такого уголка, как Батариха, и ты ее, конечно, не воспроизведешь, так как она для тебя “мелка”»12. Вероятно, художник выполнил серию набросков, которые не переросли в картину. Его произведения соединяли прошлую и современную жизнь, сказочные и привычные мотивы, передавая облик стародавнего края. И для Виктора, и для Аполлинария Север, Вятская земля, явились «ступенью» в постижении старины, облика Руси, не только гранью творчества, но и одной из основ миропонимания, философии жизни.
«Я жил среди мужиков и баб, — писал Виктор Васнецов Владимиру Стасову, — и любил их не “народнически”, а попросту, как своих друзей и приятелей, слушал их песни и сказки, заслушивался, сидя на печи при свете и треске лучины»13.
Достаток семьи Васнецовых был весьма скромным, к чему Виктор привык с детства. Берегли каждую копейку, зная, каким трудом она дается. Часто не хватало средств на покупку книг и журналов, и потому отцу Михаилу друзья присылали различные издания из Вятки. Глава семейства увлекался и искусствами, и науками, подавая пример детям, и получение таких подарков становилось радостным событием. Все рассаживались за столом, и начиналось чтение вслух, а дети, шестеро сыновей, с радостью принимали в этом участие, старшие также разбирали фрагменты текстов, младшие рассматривали картинки, а Виктор сразу же начинал рисовать. Наиболее интересные для всей семьи статьи и рассказы читали и бабушка — Ольга Александровна Васнецова (урожденная Вечтомова; 1807–1894), и отец, и их мать Аполлинария Ивановна, грамотная, глубоко верующая женщина.
Заканчивали чтение, и дети вместе с отцом отправлялись на вечернюю прогулку. Вокруг простирались холмистые пейзажи, пестрели поля, переходили в луговые равнины, перемежающиеся овражками, исчерченные быстрыми извилистыми речками, к которым подступали темной стеной суровые вятские леса. Михаил Васильевич уходил с сыновьями к кромке леса, шел по луговому разнотравью и говорил с детьми, вдыхая ароматы лета, слушая перепелов и коростелей. Отец рассказывал им о строении вселенной, показывал созвездия, и сыновья постепенно впитывали красоту и смысл Божьего мира, приобщались к ним. Благодаря отцу, «глубоко религиозному, философски настроенному» человеку, в их душах зарождалось, как писал Виктор Васнецов, «живое неистребимое представление о Живом, действительно сущем Боге!»14. Под впечатлением от таких прогулок Виктор выполнял свои первые натурные зарисовки, а затем и живописные этюды. Те же образы отчасти сказочных, отчасти реальных вятских пейзажей дали основу для решений пейзажного пространства многих его картин, прежде всего знаменитой «Поэмы семи сказок».
В дальнейшем, в годы учебы в Санкт-Петербурге, работы в Киеве и Москве, Виктор Михайлович всегда стремился при малейшей возможности вернуться в «милое сердцу Рябово». Вятская земля словно давала ему и силы, и душевное спокойствие, и новые творческие замыслы, и время для исполнения произведений. Самое раннее упоминание о его приезде в родные места относится к 1870 году. Тогда, будучи уже известным художником, он в очередной раз возвратился в вятский край, писал об этом Николаю Столпянскому[13]:
«Вятка, 4 августа, 1871 г.
Николай Петрович.
Наконец я добрался до Вятки и здесь намерен остаться на целый год для поправления своего здоровья. Это, конечно, нисколько не помешает мне продолжить сношения с Петербургом. Вы, вероятно, уже давно отправили письмо и деньги в Киев[14]. Денег теперь уже достаточно от Вас забирать — нужно уже приняться и зарабатывать, поэтому прошу Вас, насколько возможно, поскорее выслать мне дерево[15]. Адресуйте: в Вятку Александру Николаевичу Селенкину[16] с передачей В. М. Васнецову. Напишите мне — самый крайний срок работы — и я со своей стороны постараюсь не продлить его. Передайте почтение Вашей супруге.
Ваш Васнецов»15.
Художник не забывал родной край, многократно возвращался туда, что подтверждают и эпистолярные свидетельства. Однажды Александр Михайлович Васнецов писал брату Аполлинарию о «скорейшем приезде Виктора в Вятку»16, а в письме Константину Савицкому[17] Виктор Михайлович упоминал: «Иной раз и подумываю махнуть на дальний север, да дела не пускают»17.
То же отношение к родной Вятской земле через всю жизнь пронес Аполлинарий Михайлович Васнецов. В одном из писем уже после переломных событий 1917 года Аполлинарий писал брату Аркадию:
«28 июля 1921 [?] года.
<…> Мой Вова[18] собирается после 1 августа недели на 2 в Вятку. Надоела ему Москва, хочется проветриться. Собирался и я с ним, но, во-первых, дорого, да и не хочется видеть Вятку в таком состоянии. Я помню ее милой, освященной воспоминаниями детства, и, Бог даст, если будет лучше, приеду будущей весной, конечно, все в руках Божиих. Вова частью может проводить время у Саши, частью у тебя, чтобы не обременять много. Как твое здоровье? Занимаешься ли огородом и столярством?
Ну, всего хорошего, а главное — здоровья. Мой привет Ольге Андреевне и всем твоим детям, пиши, твой Аполлинарий.
Никитская ул[ица], у Моста, д. 96,
Арк. М. В.»18.
Шестеро братьев в семье Васнецовых каждый по-своему воспели северный край. Аполлинарий Михайлович как художник-пейзажист не стал робкой тенью старшего брата, а обладал вполне самобытным талантом, что подтверждают и его вятские пейзажи с образами деревенских построек, со стаффажными фигурами крестьян, отражающих неравнодушие автора к народным традициям.
Младший из братьев Васнецовых, Александр Михайлович о жизни в Рябове вспоминал так: «В окрестностях Рябова еще в значительной степени сохранялся старинный уклад жизни. Избы были черные. Оконные отверстия были затянуты обделанной коровьей брюшиной (пузырем). Никакого освещения кроме лучины крестьяне не знали. Употребления мыла не было известно. Посуда была преимущественно глиняная и деревянная… Из лиц, родившихся после 1855 г., некоторое количество было грамотных. О газетах в деревнях обычно даже не слыхивали»19.
Виктор особенно любил летнюю пору. Тогда вятские приволья казались бесконечными, в рябовском храме по-особенному звучали колокола, и их «песня», то скорбная, то радостная, разносилась далеко окрест. Из соседней деревни Кузнецовки доносился перестук молотков — полным ходом шло строительство. И как весело было мальчикам собраться вместе после церковной службы и бежать всей гурьбой: играть в лапту, жмаканцы, чижи, или купаться в чистой воде извилистой речки Рябовки, или уходить в лес, собирать цветы, грибы, ягоды, придумывать на ходу и новые игры, и сказочные истории. Радость лета сменяли затяжные дожди осени с узорами золотисто-багряной листвы, а затем приходила суровая пора долгой северной зимы. Братьям Васнецовым гулять приходилось в морозы нечасто, по очереди — на шестерых был только один полушубок и пара валенок.
Несмотря на постоянную стесненность в средствах, семья отличались радушием. Особенно многочисленные гости в их просторном доме собирались на Рождество и Святки. Гости приносили с собой немало лакомств для детей: пряники, орехи, сушки. Об этом писал племянник Виктора Михайловича Всеволод Васнецов:
«Во тьме морозной северной ночи сияли окна дома, освещая снежные сугробы. Гости пели вятские песни, танцевали, устраивали игры и хороводы, грызли пряники, щелкали кедровые орешки — любимое лакомство северян. Приехавшие из отдаленных сел оставались ночевать.
Когда уставших от веселья гостей и хозяев начинало клонить ко сну, запевали “разъезжую” песню:
Кому спать, ночевать —
Тот ложись на кровать,
Кому ехать домой —
Тому конь ворон-о-о-о-й.
Это означало, что веселье кончается. Кто уезжал, те отправлялись запрягать лошадей, кто оставался — готовились ко сну, устраивались в гостиной на полу на войлочных кошмах, укрываясь тулупами и полушубками. Дом затихал, погружаясь по тьму до следующего праздника Рождества»20.
В Святки не чурались старинных гаданий, играли «дружинками» и вновь немало пели. Песня сопутствовала и в будни, и в праздники, сопровождала любую работу, в ней отражались древнейшие поверья, каноны веры, обычаи и обряды русских, марийцев, удмуртов, татар, населявших вятские земли, и в целом, народное мировоззрение.
Виктор Васнецов перенимал традиции и постигал народное искусство не столько через музыкальную и песенную культуру, сколько посредством рисования, которым он увлекся с раннего детства — с пяти лет. Впервые, взяв уголь около печи, он попробовал еще неуверенной рукой что-то изобразить на бревенчатой стене дома, а затем стал рисовать много и увлеченно все, что видел вокруг, все, что было дорого его сердцу — лица родных, интерьеры родного дома, вятские пейзажи с рекой Великой.
В жизни взрослеющего Виктора все большее место занимало обучение. Подготовка к освоению предметов духовного училища давалась Виктору легко. Но все же искусство по-прежнему много для него значило, что неудивительно — в такой семье он рос. Прадед будущего художника, Козьма Иванович Васнецов окончил рисовальный класс духовной семинарии с похвальной грамотой. Его бабушка, Ольга Александровна рисовала и писала акварелью. Внуку она и запомнилась как «бабушка с красками». В семье бережно хранили альбом с ее работами. Вечерами при свете лучины бабушка рассказывала внукам сказки, основанные на древних легендах и сказаниях, сама сочиняла новые сюжеты и продолжения. Через несколько десятилетий ее рассказы нашли продолжение в «сказочном» живописном и устном творчестве Виктора Васнецова — он не только писал картины на темы сказок, но и придумывал для своих детей небывалые истории. Стремление к живописи братья Виктор и Аполлинарий унаследовали и от их отца[19].
Соединение православной веры и творческого начала было свойственно для поколений семьи Васнецовых на протяжении столетий. В ХХ веке известным художником стал их дальний родственник, Юрий Алексеевич Васнецов[20], сын вятского священника.
Но пока, в середине XIX столетия, заря творчества только-только всходила в жизни отрока Виктора Васнецова. Наступила осень 1858 года, и десятилетнего Виктора отправили из родного села в Вятку для обучения в Вятском духовном училище. (В те годы там еще экспонировались рисунки прадеда Козьмы Ивановича Васнецова.) История училища восходит к середине XVIII столетия. В 1735 году епископом Лаврентием (Горкой) была основана первая в Хлынове славяно-латинская школа, которая позднее преобразована в Вятскую духовную семинарию. В 1818 году на основе Вятской духовной семинарии было учреждено Вятское духовное училище. Его известными выпускниками, помимо Николая, Виктора и Аполлинария Васнецовых, стали писатель иеросхимонах Сергий (Святогорец), историк Александр Степанович Верещагин.
Обучение в Вятке, осознанное решение Виктора, стало началом его почти самостоятельной жизни, хотя сохранялись и близкое общение с семьей, и чуткая опека родителей, а также со стороны старшего брата Николая, который учился там же. У Вити, в отличие от отца, деда и прадедов, была возможность избрать для себя другой путь, так как в 1850 году при Николае I был принят закон, освобождающий детей священнослужителей от обязательного обучения в духовных школах. До этого придерживались предписания Петра I от 1714 года в обязательном порядке обучать детей духовенства в цифирных школах при архиерейских домах и монастырях. Уклонявшихся от учебы определяли в солдаты, а негодным в солдаты запрещалось жениться. Однако и при Николае I не проявлявшие рвения, «безместные» служители церкви, а также дети духовенства, не поступившие или исключенные из училища, считались «праздными», а потому подлежали лишению духовного звания и определения в солдатскую службу.
Ни Виктору Васнецову, ни другим членам его трудолюбивой семьи такие взыскания не грозили. К учебе он относился серьезно, прилежно посещал занятия, успешно выполнял все задания, а свободное время по-прежнему посвящал своему главному увлечению, со временем ставшему делом его жизни, его призванием и служением — искусству.
Обучение в духовных училищах продолжалось шесть лет, включало три двухлетних класса. В учебную программу помимо гуманитарных и богословских предметов входили физико-математические науки. В семинариях преподавали естественные науки, основы сельского хозяйства, медицины. Закономерно, что особое внимание уделялось библейской истории, катехизису — основам христианской веры в вопросах и ответах, патрологии — деяниям святых, полемическому богословию, церковной археологии, герменевтике — истолкованию древних текстов. Виктора Васнецова приняли сразу во второй класс училища, учитывая высокую степень его подготовки.
Особенно памятным для него осталось первое занятие, тем более что проводил его ректор. Представ перед вновь принятыми учениками, он, строгий, сдержанный, в неизменной черной рясе, сразу же задал вопрос, обратившись к одному из воспитанников:
— Скажи, что есть богослужение?
Глаза спрашиваемого наполняются ужасом. На шее у бедного вздрагивает, дергается жилка.
— Отчего такой страх? Вы же знаете это! Ректор тычет перстом в соседа.
Мальчик вихраст, одежда на нем сидит как-то боком, он и говорит, словно за ним гонятся:
— Богослужение, когда в колокола, да когда певчие, да когда батюшка, когда на Пасху, когда дьякон кадит…
Ректор бледнеет, но на лице его нет гнева и раздражения. Оно печально.
— Об истинах не гадают, истины знают. Кто ответит? Встало сразу двое.
— Ты! — указывает ректор на высокого тоненького мальчика.
— Богослужение есть богопочтение или благоугождение Богу, выражающееся в молитве и других священных действиях.
— Ответ похвальный. С таким учеником приятно беседовать, а потому не изволишь ли назвать нам святого, к кому ты расположен душою?
— Я часто молюсь князю Александру Невскому.
— Любопытно. А какие святые, я подчеркиваю, святые подвиги защитника рубежей Отечества тебе известны?
— Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Было чудо: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой.
Лицо ректора озаряет улыбка. Впервые за целый час.
— Думаю, не ошибусь, предрекая тебе, отрок, большой успех на поприще священнослужителя. Как твое имя?
— Виктор Васнецов!
— Отлично, Васнецов!21
Ректор не ошибся. При несомненных способностях мальчика ко всем дисциплинам, его любимым уроком в училище оставалось рисование. Как Виктор ждал этого часа, когда в класс неторопливой походкой войдет учитель Николай Александрович Чернышев. Говорил он негромко, смотрел только перед собой, будто не видя учеников, не слыша их гвалта, не замечая шалостей. Виктор, в отличие от остальных, был предельно внимателен на его занятиях, легко, верно выполнял все задания, и его рисунки приобретали все бόльшую точность построений, все бόльшую тонкость решения деталей — приближались к профессиональным произведениям. Иногда Виктор с горечью рассказывал Николаю, как невнимательны другие ученики к предмету Николая Александровича. Старший брат утешал его, советовал относиться к рисованию все также серьезно, чтобы учитель привлек Витю к иконописи. Так и произошло — пригласил в свою иконописную мастерскую, показывал старинные иконы, в том числе строгановского письма, давал посильные задания. Так, на практике Чернышев учил мастерству писания икон, знакомил с религиозной живописью Древней Руси и несомненно, что его наставничество во многом повлияло на дальнейший творческий путь и формирование личности Виктора Васнецова — художника, глубоко верующего человека, гражданина, в восприятии которого образы Господа Вседержителя, Богоматери, святых угодников были неотделимы от духовной жизни и истории Отечества.
Виктор и Николай жили на квартире, расположенной довольно далеко от училища. При напряженном графике занятий, обилии домашних заданий, учитывая длинный путь до дома, свободного времени у них почти не оставалось. К тому же с пяти до восьми часов вечера ученики могли быть подвергнуты инспекторской проверке — должны были находиться на месте проживания. Известна даже фраза, которую хозяева квартир по договоренности со своими постояльцами произносили в ответ инспекторам по поводу отсутствия воспитанников: «Пошли по ландкартам[21] да по лексиконам снискивать[22]!» Поэтому и парадоксально, и вместе с тем обоснованно, что, уже довольно долго живя в Вятке, братья Васнецовы почти не видели города. Наконец младший не выдержал:
— Когда же мы пойдем в город? — спрашивал он старшего брата. — Уж столько времени живем, а я его и не видел.
— Да ты поди сам! — разрешил Николай. — Держись Раздерихинского оврага и не заплутаешь. Выйди к Трифоновскому монастырю — оттуда на реку Вятку вид с птичьего полета. Чтоб к городу привыкнуть, надо одному ходить22.
Такое стремление отрока видеть город было вполне понятно, тем более с учетом его пристрастия к рисунку и живописи, врожденного чувства зрительного постижения образов всего окружающего: людей, пейзажей, архитектуры, а особенно старинных построек: обителей, храмов, стародавних изб, которых в древней Вятке сохранилось немало. Виктор знал исторические вехи основания и становления города. Вятка, в старину Хлынов, относилась к древнейшим городам Русского Севера. В Х веке был основан Белозерск, в XII — заложены Тотьма (1137), Вологда (1147), Согласно «Повести о стране Вятской» (конец XVII века) город Вятка упоминается после 1181 года новгородцами. К этому времени они уже основали Никулицын[23] и Котельнич[24] и намеревались основать единый центр. Первое известие о Вятке или Вятской земле в общерусских летописях относится к 1374 году, связано с походом новгородских ушкуйников на главный город Волжской Булгарии — Булгар.
Виктор проходил по улицам старой части города с ее регулярной планировкой, разбивкой на правильные прямоугольники, характерной для многих древнерусских городов, но пробретенной в уже более позднее время. Его цепкий взгляд то и дело останавливался на столь разных фасадах: то приветливых, то сумрачных, неухоженных или, напротив, расписных, живописных. Постепенно мальчик начинал осваиваться в совершенно новом для него городском пространстве с его масштабом и многолюдностью, что так разительно отличалось от тихого Рябова, окруженного бескрайними лесами, полями и лугами с богатой палитрой трав.
Прогуливаясь по Вятке, он не мог не подойти к Успенской Трифоновой обители. Стоя под древними монастырскими стенами он, вероятно, вспоминал житие святого, которое в подробностях запомнил по рассказу ректора училища. Преподобный Трифон Вятский происходил из Архангельской губернии, служить Господу ушел на Каму, где принял монашество. В качестве послушания ему было назначено быть пекарем. Во время сильной болезни перед ним в видении предстал святитель Николай, исцелил и предрек ему подвижническую жизнь. Трифон, всегда носивший власяницу и тяжелые вериги, проповедовал среди пермяков, обращал в христианство остяков и вогулов. В Хлынове в 1580 году им был основан Успенский монастырь.
За монастырем Виктору Васнецову наконец-то открывалась привычная его взгляду картина — луговой да лесной простор с едва заметными у горизонта избами Дымковской слободы, образ столь характерный для северных вятских земель. Виды Вятки известны по пейзажам Аполлинария Васнецова: «Село Вятка» (1900), «Город Вятка» (1902), а также благодаря произведениям современника братьев Васнецовых, северянина, пейзажиста Аркадия Александровича Рылова, автора пейзажей «Вятка» (1900), «Вятка. Озимые поля» (1903), «Озеро. Вятка» (1906). Михаил Васильевич Нестеров поэтично и восторженно называл Рылова: «наш русский Григ»23.
Быстро летели месяцы за напряженными и интересными учебными занятиями. В 1862 году Виктор, успешно окончивший духовное училище, был переведен в Вятскую духовную семинарию. Сохранилось «Свидетельство», датированное 10 июля 1862 года, позволяющее судить о его достижениях в учебе:
«Предъявитель сего, Вятского Духовного Уездного Училища высшего отделения ученик Виктор Васнецов, Вятской округи села Рябовского Священника Михаила сын, имеющий ныне от роду 13 лет, обучался в оном училище с 1858 года.
При поведении весьма хорошем,
способностях хороших
и прилежании ревностном
Пространному Катехизису с объяснением зачал
воскресных и праздничных Апостолов,
Священной истории,
Уставу Церковному,
Церковному пению ………………………………………….. Хорошо
Грамматике русской …………………………………………. Хорошо
[Грамматике] Славянской,
Языкам: Латинскому, Греческому,
Русской Истории,
Географии
и Арифметике ……………………………………. Довольно хорошо
Ныне, по окончании испытаний, бывших в июне месяце, обозревавшем Вятское Духовное училище Ректором Семинарии, Архимандритом Дионисием, переведен в низшее отделение Вятской Духовной Семинарии для продолжения учения.
Дано сие свидетельство, за надлежащим подписом, с приложением училищной печати. Июля 10 дня 1862 года…»24
Как и в училище, курс семинарии был разделен на три двухлетних класса — риторики, философии, богословия. Достаточно легко осваивая все обязательные предметы, Виктор Васнецов все свободное время посвящал рисованию, начинал осваивать и живописное искусство.
В 1863 году привычное течение жизни было прервано, на их семью обрушилось несчастье — ушла из жизни мать Аполлинария Ивановна в возрасте тридцати девяти лет. Отец отныне должен был и содержать всю семью на свой скромный доход, и вести хозяйство, и заботиться о детях. Виктор как семинарист по большей части жил в Вятке, но, приезжая в родное Рябово, как мог помогал отцу и справляться с делами, и присматривать за четырьмя младшими братьями.
Взрослея, Виктор все большее значение начинал придавать искусству и потому в 1867 году принял решение уйти из предпоследнего философского класса семинарии. Стремление посвятить себя искусству оказалось сильнее. На Севере начинающий юный художник работал над своими первыми произведениями: пейзажами, зарисовками сцен из крестьянского быта, портретами крестьян, жанровыми живописными сценками.
Образы родного северного края, хранящего старину, отголоски искусства Древней Руси, будут сопутствовать творчеству Виктора Васнецова, включая религиозные произведения, в течение всей жизни. Зрелым мастером он вновь посетит вятский Троицкий собор, где в юности подмастерьем работал над росписями, и Иоанно-Предтечинский храм села Рябова, в котором к тому времени и фрески, и иконостас померкли и облупились (с болью будет об этом писать).
Помня о некогда сияющих красочных интерьерах северных храмов, он создавал росписи и религиозные картины. В них он гармонично соединял художественные традиции Древней Руси, Византии, итальянского Возрождения, обретая тем самым самобытную живописную манеру, добиваясь собственного образного звучания произведений, в том числе исполненных для киевского собора Святого Владимира, Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, храма Александра Невского в Варшаве и т. д. Среди образов, созданных им во Владимирском храме Киева, присутствуют северные святители: Варлаам Хутынский, юродивый Прокопий Устюжский, изможденный монах Кукша Печерский, просветитель вятичей.
В 1866 году, еще учась в Вятской семинарии, он начал работать как профессиональный график и к 1868 году исполнил иллюстрации для издания Ивана Трапицына «Собрание русских пословиц»[25], увидевшего свет в 1870 году. Восемнадцатилетний Виктор Васнецов, не имевший еще специального художественного образования, верно и живо отобразил в графических композициях — сценах народной жизни — быт северян. Прикосновение к искусству помогало юному автору противостоять горю по ушедшей из жизни матери и облегчить груз заботы о братьях, особенно об Аполлинарии, тоже начинающем художнике. Семью в тот момент не миновали и финансовые трудности.
Несмотря на все душевные волнения, Виктор не оставлял занятий искусством. Уже в следующем, 1867 году он писал маслом свои первые станковые картины, получившие известность среди вятской интеллигенции: «Жница»[26] и «Молочница»[27]. На полученные от их продажи 60 рублей с разрешения отца, по его благословению, решил отправиться в Санкт-Петербург поступать в Императорскую Академию художеств.
Нелегко ему далось это решение — поехать в северную столицу, казавшуюся недавнему семинаристу неприступной. О тревогах и сомнениях начинающего художника могут напомнить скупые строки официального «Свидетельства» от 14 мая 1869 года, где было сказано следующее:
«Дано сие свидетельство из Вятской Духовной Консистории уволенному из высшего отделения Вятской Духовной Семинарии ученику Виктору Васнецову в том, что он вследствие поданного им прошения Вятским Епархиальным начальством уволен из духовного звания в Гражданское ведомство для образования в Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств.
Мая 14 дня 1869 года»25.
Так было положено начало осуществлению его мечты, во многом определившей всю дальнейшую жизнь художника.
Глава вторая
В «ХРАМЕ ИСКУССТВ» СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Вступил в академию как в некий храм…
И. Н. Крамской
В вечернем полумраке здание Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств на Васильевском острове выглядело пустынным, только из дальних окон мастерских едва пробивался тусклый свет. То время было далеко не простым для России. В 1855 году ушел из жизни самодержец Николай I, эпоха царствования его сына, императора Александра II, только начиналась, сопровождаясь нарастанием массовых волнений, усилением студенческих протестов. Этому способствовало и поражение России в Крымской войне в 1856 году. Усиление революционных настроений в обществе вызвало проведение новых реформ, во многом определивших характер царствования Александра II, которое завершилось в 1881 году, когда император был убит при очередном покушении на его жизнь. Исторические события не могли не отразиться на культурной жизни страны, столь бурной в 1860-е годы, и затронули, в том числе Академию художеств. И в связи с изменением некоторых программ после отмены крепостного права 19 февраля (3 марта) 1861 года, и в связи с «Бунтом 14-ти» во главе с Иваном Крамским — протестом четырнадцати выпускников академии 9 (21) ноября 1863 года, их отказом писать картину на заданную тему из скандинавской мифологии «Пир во Валгалле». В 1867 году, когда Виктор Васнецов приехал в Северную столицу, память о «Бунте 14-ти» была еще очень свежа.
«Его превосходительству господину ректору Императорской Академии художеств
Федору Антоновичу Бруни
Конкурентов на первую золотую медаль
Прошение.
8-го октября мы имели честь подать в Совет Академии прошение о дозволении нам свободного выбора сюжетов к предстоящему конкурсу; но в просьбе нашей нам отказали… Мы и ныне просим покорнейше оставить за нами эти права; тем более, что некоторые из нас, конкурируя в последний раз в нынешнем году и оканчивая свое академическое образование, желают исполнить картину самостоятельно, не стесняясь конкурсными задачами»26.
Завершали прошения подписи авторов-бунтарей: «А Морозов, Ф. Журавлев, М. Песков, И. Крамской, Б. Вениг, П. Заболотский, Н. Дмитриев, Н. Шустов, А. Литовченко, А. Корзухин, А. Григорьев, К. Лемох, Н. Петров».
Среди конкурсантов был также Константин Маковский, а Петр Заболотский, уже подписав прошение, просил освободить его от конкурса по семейным обстоятельствам, но к молодым живописцам сразу же примкнул скульптор Василий Крейтан.
Кем же они были? Как возник их дружеский круг? Говоря об этом, нельзя не уделить внимание Ивану Крамскому — одному из центральных представителей, главному идеологу «бунта». Все начиналось еще в 1858 году, когда Крамской, удостоенный второй серебряной медали за рисунок с натуры, чтобы отметить значимое событие, пригласил друзей не в трактир «Золотой якорь» по академической традиции, а к себе в съемную квартиру в 8-ю линию Васильевского острова. Их сборы стали почти ежедневными, после вечерних академических классов. Молодые художники рисовали, много читали вслух современную литературу, спорили об искусстве. Так вырабатывался их новый философский, эстетический взгляд на современное творчество, его цели, темы, решение образов. В изобразительном искусстве они хотели выражать идеи, созвучные новым произведениям литературы, публицистики, новым политическим воззрениям общества.
В 1867 году, когда Виктор Васнецов приехал в Северную столицу и впервые взошел на парадную лестницу «храма искусств», вспоминая о тех, кто раньше него вступил здесь на стезю обучения, чтобы обрести мастерство и служить искусству.
Как известно, «много званых, а мало избранных» (Мф. 20:16). Сколько известных художников с конца XVIII века и по сей день прошли по академическим коридорам! Сколько тех, чьи творческие судьбы не состоялись, а имена канули в водоворот времени, немало и других — высоко «взлетевших» в годы учебы и не выдержавших испытаний самостоятельной жизни. Но были и те немногие, кто заслуженно стал гордостью академии, оставив своим творчеством значимый след в истории культуры России.
Виктор Васнецов хорошо знал славные имена тех, о ком помнили стены «храма искусств», едва ли не священные для девятнадцатилетнего вятича. История Императорской Академии художеств восходит к эпохе императрицы Елизаветы, дочери Петра I. В период ее правления Иван Иванович Шувалов, представитель российского знатного рода и фаворит императрицы, предложил ей учредить по европейским образцам Академию художеств, указ об этом был ей подписан в 1757 году. Семь лет спустя, уже в период правления Екатерины II, началось строительство величественного здания на Васильевском острове. С первых лет своего существования академия приобрела заслуженную известность. Ее история нерасторжимо связана с громкими именами отечественного искусства и науки — М. В. Ломоносова, А. П. Лосенко, Д. Г. Левицкого, Г. И. Угрюмова, А. А. Иванова, К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни и многих других.
Под академическими сводами для Виктора последовали вступительные экзамены, напряженная длительная работа в мастерской над постановками, постоянное недовольство собой, своим профессиональным уровнем, неудовлетворенность выполнением графических и живописных заданий. В результате столь строгой самооценки он даже не пришел, чтобы узнать результаты вступительных экзаменов, те оценки, которые дала ему комиссия педагогов-художников. Начинающий живописец вынес сам себе строгий «приговор», решив, что пока недостоин учиться в академии. Сам Виктор Михайлович вспоминал об этом инциденте через много лет в семейном кругу Праховых:
«Пойти в канцелярию проверить я не решился. Уж очень важными особами казались мне тогда все эти чиновники, и даже простые служители и сторожа, все в расшитых золотом мундирах! Не знал, куда приткнуться, где искать работу. Да неожиданно встретил на Невском проспекте старого вятского знакомого, инженера-топографа В. А. Красовского. Он мне указал на картографическое заведение А. И. Ильина, куда сам повел и познакомил с хозяином. У Ильина я проработал всю зиму, одно время даже жил у него на всем готовом и давал уроки рисования его детям, за что получал 25 рублей в месяц…»27
При этом, несмотря на все материальные и бытовые затруднения, Виктор Васнецов не отрекся от своей мечты. Со свойственной ему требовательностью к себе он продолжил трудиться, осваивая художественное мастерство, считая, что недостаточно подготовлен к освоению академических программ. Оставшись в Санкт-Петербурге, усиленно готовился к новому поступлению в академию через год, а пока стал учиться в Рисовальной школе общества поощрения художников на Бирже. Посещал вечерние классы Ивана Николаевича Крамского, замечательного портретиста и выпускника академии, ставшего наставником не только Виктора Васнецова, но и целой плеяды молодых талантливых живописцев, включая Илью Ефимовича Репина.
Итак, молодой провинциал встал на путь постижения классики, академической художественной школы, словно начал подниматься по символической лестнице мастерства, где каждая новая ступень и давалась ему непросто. В Рисовальной школе Виктор занимается в течение 1867/68 учебного года, после чего наконец он достигает цели приезда в Санкт-Петербург и поступает в Академию художеств.
Однако, чтобы приблизиться к этой цели, как решил сам Виктор Васнецов, ему предстояло работать, не жалея себя, работать постоянно, все более ужесточая требования к самому себе, чтобы достичь того уровня профессионализма, с которым, по его мнению, он будет достоин учиться в академии. В этой подготовке важную роль, несомненно, сыграла его встреча и общение с Иваном Крамским. Личность уже уверенно стоявшего на ногах, громко заявившего о себе молодого художника, главы им же созданной Санкт-петербургской артели, не могла не привлечь внимания начинающего Васнецова.
Жизнь и творчество Ивана Крамского, выдающегося представителя отечественного искусства, казалось бы, широко известны и детально изучены. Однако насколько контрастные оценки давались его взглядам и деятельности, истолкованию идей его произведений в XIX, ХХ столетиях и ныне. Исследователи представляли Крамского то едва ли не придворным художником, приближенным к императорской семье, то бунтарем, отвергающим не только академическую школу, но и политические, социальные устои государства. Множество публикаций о прославленном портретисте, полярные суждения о нем также свидетельствуют о его значимости и незаурядности.
Попытаемся взглянуть на произведения и общественную деятельность Ивана Крамского с позиций Виктора Васнецова и непредвзято оценить самобытность человека, бесспорно, находившегося под духовно-историческим влиянием своей эпохи, современной ему культуры, но и сумевшего отчасти преобразовать художественную жизнь страны. Важно увидеть Крамского и глазами его современников, и сквозь призму наших дней, без налета идеологических приоритетов и преходящих вкусов, увидеть художника, увлеченного жаждой свершений, всепоглощающим служением искусству, увидеть человека с его сомнениями и противоречиями, со всеми перипетиями его жизненного пути.
Иван Крамской — человек, художник, мыслитель — сложен, неоднозначен, порой непоследователен, но вместе с тем как в XIX веке, так и ныне он не может не привлекать внутренней силой, талантом, светлой волей к созиданию. Его личность раскрывается в сотнях произведений, в переписке, статьях, общении с окружающими. Столь разные люди служили натурой для его портретов. К кому-то из них он оставался равнодушен, с другими шел рядом по жизни, помогая и поддерживая, третьих отталкивал, не считая возможным изменять своим принципам. Немаловажное влияние на формирование гражданской позиции художника оказала эпоха перемен второй половины XIX столетия и Санкт-Петербург, образ и философия города. Крамской стал петербуржцем и художником Северной столицы. Во многом именно так можно объяснить содержание и идейный смысл его произведений. Жизнь и культура города, мир Академии художеств нашли отражение в творчестве Ивана Николаевича. Даже когда он обращался к народной теме, близкой и Васнецову, он оставался художником Санкт-Петербурга, его художественной школы.
В биографиях Виктора Васнецова и Ивана Крамского немало сходства, как во многом подобно и начало их жизненного и творческого пути. Оба происходили из провинции, их семьи, крепкие и достойные, нельзя было причислить к зажиточным, оба с детских лет увлеклись рисованием и могли рассчитывать только на свои силы. Оба многого добились своим талантом, трудом, упорством, были целеустремлены и с юности ответственны. Уже в детстве, как и у Виктора Васнецова, в его душе проснулась любовь к искусству, стремление «вырваться» из привычно однообразной тихой жизни провинции.
У Крамского, как и у Виктора Васнецова, рано выработался твердый, сильный характер, что не раз помогало в жизни, позволило ему, несмотря на все преграды, стать профессиональным художником. Для обоих важнейшим жизненным рубежом стало поступление в Санкт-Петербургскую Императорскую Академию художеств. После «Бунта 14-ти», с 1862 года, Иван Николаевич состоял преподавателем в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, подготовил нескольких талантливых учениц, вынужденных заниматься в школе, а не в академии, куда в те годы художниц еще не принимали. В 1860-е годы им был исполнен ряд высоко профессиональных портретов, уже нисколько не ученических, характерных и для его дальнейшего творчества. Именно к этому периоду относится знакомство, начало и профессионального, и дружеского общения двух выдающихся художников, сильных личностей, достойных, самобытных людей, у которых было так много общего — Ивана Крамского и Виктора Васнецова.
Прошел год. И молодой вятич решил вновь держать вступительные экзамены в Академию художеств. Направился вторично подавать документы. Со свойственной ему скромностью наконец решился подойти к секретарю. С этим, казалось бы, тревожным для каждого абитуриента событием связан анекдотичный эпизод. Секретарь канцелярии, принимавший у него бумаги, удивленно спросил: «Так зачем Вам еще раз держать экзамены? Ведь Вы выдержали все в прошлом году! Вам надо только получить от нас студенческий билет и аккуратно посещать все занятия»28.
Так в 1868 году сбылась мечта начинающего художника, для осуществления которой он отдал так много душевных и физических сил, эмоций, времени. Он был зачислен штатным учеником в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга. Согласно уставу 1859 года здесь был введен шестигодичный курс общеобразовательных наук, лекции по которым читались с 8 до 11 часов утра, далее, до вечера, продолжались занятия по творческим дисциплинам — рисунку и живописи. Программа на всех курсах обучения оставалась насыщенной, сложной, освоить ее были способны далеко не все студенты. Виктор Васнецов, отличавшийся предельно серьезным отношением к занятиям и требовательностью к себе, ранним утром, еще затемно, приходил на 4-ю линию Васильевского острова. Издалека открывался вид на строгое монументальное строение, историю возведения которого вскоре узнал Васнецов.
Здание Академии художеств строилось с 1764 по 1788 год по проекту Жана Батиста Валлен-Деламота и Александра Кокоринова, крупнейших мастеров раннего классицизма в России. На территории между 3-й и 4-й линиями Васильевского острова находились три деревянных дома, принадлежавших разным владельцам. Одна из построек на углу набережной и 3-й линии — Головкинский дом по распоряжению императрицы Елизаветы в 1759 году был передан Академии художеств. Чуть позже учебному заведению предоставили соседний дом Вратиславского, а здание, где первоначально располагалась морская аптека (угол набережной и 4-й линии), было присоединено в 1763 году. Инаугурация каменного строения и освящение нового храма Святой великомученицы Екатерины проходили 7 июля 1765 года еще в комплексе деревянных сооружений, объединенных лишь общим фасадом.
Входя в академию, Васнецов привычно поднимался по полутемной винтовой лестнице к гардеробу, где уже, несмотря на ранний час, было довольно людно, где уже «кипела» оживленная студенческая жизнь. Затем шел, едва ли не ощупью пробираясь, по длинным и темным академическим коридорам, глаза щипало от едкого дыма печей и, наконец, находил нужный класс. О себе он писал: «Был я тогда малый, довольно усердный к работе, а к работе с натуры относился с особым почтением и посещал классы аккуратно до наивности (и хорошо, конечно, делал)»29.
О первых впечатлениях Виктора Васнецова от академических мастерских и классов также ясно позволяют судить подробно и красочно написанные воспоминания его современника — Ильи Репина, также студента Императорской Академии художеств, но начавшего учиться здесь четырьмя годами раньше: «Кого только тут не было! Были и певучие хохлы… мелькали бараньи шапки, звучал акцент юга. Попадались и щегольские пальто богатых юношей, и нищенские отрепья бледных меланхоликов, молчальников, державшихся таинственно в темных нишах. Посредине, у лампы, слышен громкий литературный спор, студенческая речь льется свободно: это студенты университета, рисующие по вечерам в Академии художеств. По углам робкие новички-провинциалы с несмелым шепотом и виноватым видом. А вот врываются изящные аристократические фигурки, слышатся французские фразы и разносится тонкий аромат духов»30.
Васнецов занимался успешно, за год выполнил все задания в классе гипсов — первом в академической программе, в 1869 году перешел в следующий класс, где уже рисовали с натуры, что было особенно важно для студентов. Подобные впечатления от натурного класса описывал Илья Репин:
«У двери рисовального класса еще за час до открытия стояла толпа безместных, приросши плечом к самой двери, а следующие — к плечам товарищей, с поленьями под мышками, терпеливо дожидаясь открытия.
В пять часов без пяти дверь отворялась, и толпа ураганом врывалась в класс; с шумным грохотом неслась она в атаку через препятствия, через все скамьи амфитеатра вниз, к круглому пьедесталу под натурщика, и закрепляла за собой места поленьями.
Усевшись на такой жесткой и низкой мебели, счастливцы дожидались появления натурщика на пьедестале. Натурщиц тогда еще и в заводе не было. Эти низкие места назывались “в плафоне” и пользовались у рисовальщиков особой симпатией. Рисунки отсюда выходили сильными, пластичными, с ясностью деталей… На скамьях амфитеатра полукругом перед натурщиком сидело более полутораста человек в одном натурном классе. Тишина была такая, что скрип ста пятидесяти карандашей казался концертом кузнечиков, сверчков или оркестром малайских музыкантов. Становилось все душнее. Свет от массы ламп наверху, освещая голубоватой дымкой сидевшие в оцепенении фигуры с быстро двигавшимися карандашами, становился все туманнее. Разнообразие стушевывалось общим тоном»31.
Несомненно, что такое стремление начинающих художников поступить в Императорскую академию, преодолевать сложности заданий каждого класса было обоснованно, поскольку именно академическая образовательная система, восходящая к эпохе Античности, давала ту школу высокого мастерства, которая столь необходима для обретения истинного профессионализма.
В Древней Греции академией называлась философская школа, основанная в 387 году до н. э. Платоном по образцу пифагорейского братства. Она получила название от священной рощи на северо-западе от Афин, где, по преданию, был похоронен древнегреческий герой Академ. В роще, обнесенной стеной, находились гимназия, алтарь муз, святилище Зевса и Афины. Ученики черпали знания, беседуя на прогулах со своим учителем Платоном в тени деревьев. В эпоху Ренессанса во Флоренции в 1459 году была открыта Платоновская академия с целью изучения греческой философии.
Об истории академий художеств Виктор Васнецов узнавал на лекциях, которые аккуратно посещал. С первых месяцев занятий среди робких провинциалов его выделяли исключительная целеустремленность, преданность искусству и уверенность в правильно выбранном для себя жизненном пути. Несомненно, что ему были близки и такие высказывания, воспоминания Ильи Репина:
«Но я был в величайшем восторге и в необыкновенном подъеме. Должен признаться: самую большую радость доставляла мне мысль, что я могу посещать и научные лекции настоящих профессоров и буду вправе учиться всем наукам.
В Академии, в инспекторской, я сейчас же списал расписание всех лекций по всем предметам и горел нетерпением поскорей услышать их. Лекции были не каждый день (об этом я уже жалел) и располагались: по утрам от восьми до десяти с половиной часов (еще темно было — при лампах) и после обеда от трех до четырех с половиной часов. Особенно врезалась мне в память первая лекция. Я на нее попал случайно: читалась начертательная геометрия для архитекторов.
Пришедши почти ночью с Малого проспекта при горящих фонарях и добравшись по едва освещенным коридорам до аудитории, где читалась математика, я был поражен тишиною и полутьмою. Огромная камера не могла быть хорошо освещена двумя висячими лампами: одна освещала кафедру, профессора и большую черную доску, на которой он чертил геометрические чертежи, другая освещала скамьи. Я поскорее сел на первое свободное место — слушателей было немного, и это еще более увеличивало тишину и темноту…
Я страстно любил скульптуру и по окончании лекции пошел в скульптурный класс. Было уже совсем светло, и в огромном классе, окнами в сад, было совершенно пусто — никаких учеников.
— А мне можно лепить? — спрашиваю я у заспанного служителя.
— Так ведь вам надо все приготовить. Что вы будете лепить? — отвечал он с большой скукой.
— Да вот эту голову, — указал я на кудрявую голову Антиноя. Разумеется, я ни минуты не верил, что вот так сразу я и лепить могу…»32
Столь же неравнодушен к искусству скульптуры был и Виктор Васнецов. В перерывах между занятиями вместо отдыха он заходил в мастерские, чтобы увидеть работы студентов и оценить их мастерство. Часто бывал и у скульпторов, где познакомился с Марком Антокольским[28], об исключительном таланте которого уже много говорили в академии. Годы спустя Виктор Михайлович вспоминал: «Как ни был я тогда юн и неопытен, а художественный инстинкт подсказывал мне и указывал нечто особенное в работах этого сухощавого, темнобородого и скорее интересного, чем красивого еврея. Становился я поодаль за его спиной и внимательно следил: как из-под его пальцев появляются носы, глаза, руки, ноги и проч. — совсем удивительно!»33 Их знакомство оказалось и полезным для становления в профессиональном искусстве, и увлекательным. Приходя в гости к Антокольскому, Васнецов заставал там многих художников и с неизменным интересом слушал их споры об искусстве, в которых поначалу не решался участвовать. С особым воодушевлением, помимо самого Марка Антокольского, дискутировали Илья Репин и Генрих Семирадский. (В 1884 году, когда оба уже известных автора будут вместе работать в Абрамцеве, Васнецов напишет выразительный профильный портрет Марка Матвеевича[29].)
Постепенно молодой северянин преодолел смущение и стал высказываться все более и более свободно. Он обменивался с Антокольским суждениями о произведениях искусства и, помимо прочего, выражал свое восхищение его работами «Спор о талмуде» и «Еврей-портной». С улыбкой и с душевным волнением Виктор Михайлович вспоминал многие годы спустя:
«С этого первого вечернего знакомства в классах Академии начались у нас с Антокольским самые дружеские, теплые отношения, хотя ближе всех к нему, кажется, был Репин…
Нравилась мне в Антокольском его необычайная любовь к искусству, его нервная жизненность, отзывчивость и какая-то особая скрытая в нем теплота энергии. Любил он говорить, кажется, только об одном искусстве, или, по крайней мере, всякие отвлеченные рассуждения и философствования сводились в конце концов к тому же искусству, о котором говорилось у нас так много, а спорили мы и того больше. В спорах он, как, впрочем, и все мы, был горяч, но всегда стремился каждую мысль определить и формулировать»34.
В академические годы не меньшее значение для Виктора Васнецова имело общение с Ильей Репиным. Они познакомились в 1869 году. Тогда на Илью Ефимовича произвел сильное впечатление графический эскиз Васнецова «Гомер», выполненный как обязательное ежемесячное композиционное задание, сохранившийся до наших дней. Репин, со свойственной ему эмоциональностью и энергией, долго объяснял кому-то из студентов свое понимание васнецовского эскиза, его подлинно эпическое звучание, которое не могла заглушить ни условность академических требований, ни пока еще недостаточный профессионализм художника: многофигурная композиция была убедительно решена. Вокруг графического листа собралось немало заинтересовавшихся происходящим студентов и наконец к Репину скромно подошел высокий юноша с продолговатым лицом, спокойно-глубоким взглядом и светлыми волосами — автор «Гомера».
Виктор Васнецов и Илья Репин сразу же смогли оценить друг друга, первое знакомство стало и началом их крепкой дружбы, сохранившейся на многие годы. Репин всегда (а в молодости особенно) отличался импульсивностью, эмоциональностью, много и возбужденно говорил. Больший контраст, чем являл ему тихий, молчаливо-скромный, несколько скованный Васнецов, было трудно представить. Тем не менее они относились друг к другу с теплотой и уважением, вместе снимали комнату на 5-й линии Васильевского острова, в доме Шмидта.
Их сближали и преданность искусству, и понимание таланта друг друга. Во многом они были очень разными, в том числе в манере работать. Репин всегда оставался открытым, мог неоднократно писать и переписывать свои произведения в присутствии друзей и коллег. Вятич предпочитал работать только уединенно, никому не показывал незавершенных произведений, хотя в ответ на настойчивые просьбы Ильи Репина мог все же сделать исключение: «Не хотел я тебе свою безделку показывать, да разве от тебя отвяжешься…»35
Виктор Михайлович позднее без всякого преувеличения замечал: «Считаю долгом сказать, что Репин имел на меня самое большое влияние как мастер…»36 Действительно, Илья Ефимович давал Васнецову советы в отношении его учебных заданий, а, отправившись в пенсионерскую поездку в Париж, присылал другу письма с ценными рекомендациями по технике живописи. Со временем молодой северянин все более осознавал значимость для себя былинных образов, во многом созвучных традициям родного Вятского края, и стремился к их образной интерпретации. И в этом новаторском начинании друга Илья Ефимович сыграл весьма заметную роль, о чем Васнецов позже писал: «Сильное впечатление оставили чтения былин на вечерах у Репина»37. Народные сказания, любимые с детства, теперь воспринимались как живительный исток будущего творчества, отражались пока только в быстрых набросках и эскизах, а через несколько лет станут основой первым произведениям былинно-сказочного цикла.
Васнецов и Репин немало общались с талантливым лингвистом Мстиславом Праховым[30], с которым познакомились у Марка Антокольского, вспоминавшем о Мстиславе Викторовиче так: «Я жадно слушал его; он говорил увлекательно, точно читал из книги. Бывало, придет к нам с Репиным и начнет рассказывать о чем бы то ни было: об истории, об искусстве. О поэзии… Все слушаешь с одинаковым интересом, не силясь запомнить как на лекциях, а речь его, точно мягкая рука, ласкает сознание… Мстислав Прахов посещал нас часто и снабжал нас книгами, преимущественно поэтическими. “Не засушивайте ваш ум слишком, развивайте чувство, орошайте его поэзиею, давайте ему простор, и оно само подскажет вам, что делать”, — говорил он. В это время он собирался писать историю литературы и накупил массу книг. Читал много и русского, в особенности из Пушкина и Лермонтова. Прочитал он мне и свой замечательный труд о “Слове о полку Игореве”, к сожалению, не конченный. Так мы проводили наши вечера… Он был не от мира сего…»38
Рассказы Прахова, несомненно, и на Васнецова, и на Репина, отличавшихся не меньшей остротой восприятия, производили неизгладимое впечатление, что в дальнейшем не могло не сказаться на замыслах произведений обоих художников.
Также часто они общались со студентом Академии художеств Архипом Куинджи, будущим выдающимся пейзажистом и талантливым педагогом, которого почитали студенты академии. Он тогда жил в меблированных комнатах Мазановой. Здесь трое друзей проводили вместе вечера, а нередко и спорили до двух-трех часов ночи. Именно к этому периоду относится мастерски выполненный Васнецовым портрет Куинджи, емко отражающий импозантную внешность и незаурядную личность этого человека, силу его характера, энергию, интеллект и талант.
Воспоминания Ильи Репина содержат ценные сведения о напряженном графике занятий в Академии художеств, распорядке его учебного дня. Студентом Репин, как и Виктор Васнецов, полностью посвящал себя освоению профессии, что, несомненно, дает право думать, что их впечатления в целом одни и те же. «Я встал в семь часов утра и после своего чая с черным хлебом был сыт на весь день… Поднявшись во второй этаж, я увидел на одной двери надпись — значилось, что здесь читается, и — и, следовательно, сейчас начнется — лекция всеобщей истории. Я вошел с благоговением. Амфитеатром поднимающиеся скамьи были уже полны сидящими учениками, человек около ста…»39 Так начиналось утро. Позже, с пяти до семи часов вечера, проходили занятия в рисовальном классе:
«У двери, пока ее отворят, самые прилежные стоят уже прижавшись к ней, чтобы первыми войти к своим номерным местам. Дождались, занял и я после других какое-то место — уже после 150 номеров.
Стояла голова Александра Севера. Ученики всех трех классов, разместившись на круглых амфитеатрах поднимающихся скамеек, сидели полных два часа так тихо, что отчетливо был слышен только скрип карандашей (ну, точно кузнечики трещат), да шумели, разве когда кто-нибудь вместо тряпки стряхивал с рисунка уголь своим же кашне с собственной шеи.
Ну, вот и класс кончен, за пять минут до семи звонят, все бросаются к сторожу, стоящему у выходной двери с большим полотенцем у огромной чашки воды; моют черные от карандашей руки и быстро вытирают грубым полотенцем: скоро оно стало уже темно-серым и мокрым. Еще бы! — вместо мыла берут кусочек серой глинки, которая тут же положена на черепке предусмотрительным сторожем.
Полон счастья и тепла, вдыхая свежесть улицы, я выхожу на воздух. Вот дивный день: от семи часов утра и до семи часов вечера я был так полно и так разнообразно занят любимыми предметами»40.
По утрам в академических мастерских было полутемно — горел фотоген[31], дававший лишь тусклое освещение, электричество тогда еще не использовалось. В 1868-м, в год поступления, вероятно, в утреннем полумраке мастерской Виктор Васнецов исполнил графический автопортрет — с листа бумаги на зрителя смотрит юноша с тонкими чертами чуть вытянутого лица, с задумчиво-серьезным взглядом, углубленным в себя и в то же время острым. Тем же годом датируются два сохранившихся рисунка: «Монах-сборщик»[32] и «Люций Вер. Рисунок гипсовой головы»[33]. Вероятно, обе штудии относятся к учебным работам — задание по композиции и рисунок, выполненный с натуры, с чем Васнецов блестяще справился.
Для него было важно завершить каждое задание обязательной учебной программы, выполнить все требования педагогов, восходящие к классике академизма, к лучшим традициям западноевропейского искусства, к урокам «старых мастеров», прежде всего к итальянской живописи. Из лекций по истории искусства молодой вятич узнал, что первая Академия художеств была основана около 1585 года в Болонье известными художниками: братьями Карраччи, Доменикино и Гвидо Рени.
Болонья, расположенная на севере Италии, в долине реки По считалась городом спокойных, уравновешенных и рассудительных людей. Стендаль[34]





























