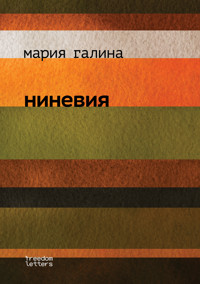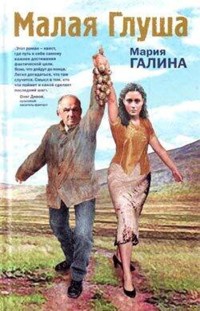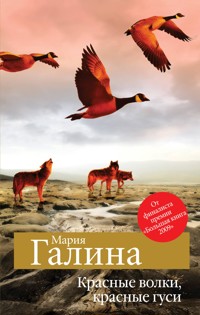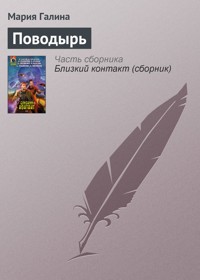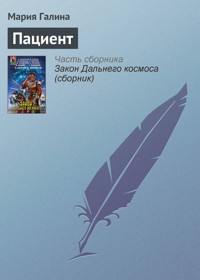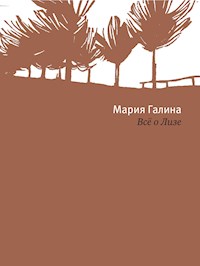Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Russisch
Эта книга — литературный дневник первого военного года, который автор пережила вместе с остальными жителями Одессы, летопись шока, страха и его преодоления, сопротивления и, в конце концов, надежды. Книга стала финалистом премии «Дар».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Слова Украïни
№ 142
Мария Галина
Возле войны
Одесса. Февраль 2022 — лютий 2023
Предисловие Михаила Эдельштейна
Библиотека Михаила Гринберга • Freedom LettersИерусалим2025
От автора
Это предисловие я пишу специально для нового издания, поскольку прошло ровно три года с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Это очень сухая формулировка, призванная отделить ползучую войну, которую Россия ведет, частично чужими руками, в Украине, начиная с 2014 года. И если сначала процветающий, хоть и небеспроблемный Донбасс превратился в серую зону, то сейчас это уже не серая зона, а выжженная земля, тысячи разрушенных и уничтоженных жизней, поля, засеянные смертью, убитые и искалеченные люди, несчастные, когда-то домашние, животные, сгоревшие сады и леса. Война пришла к нам, и ракетная атака на города-миллионники (или бывшие миллионниками до нападения России) — это не пустой звук. Это рутина. Дальше матом.
Я начала этот дневник — не в первые дни войны, я была слишком ошеломлена и растеряна, и все время у меня уходило на то, чтобы отслеживать ход военных действий в соцсетях. Я вообще онемела. Я, человек слова, лишилась способности писать тексты. А потом случилась Буча. Ну не только Буча. Мы используем ее как метафору, но она же не одна была. Достаточно почитать страшное стихотворение погибшего на войне поэта Максима Кривцова, чтобы понять, как это было… Но я отвлеклась. Так вот.
Когда я начала этот дневник, я решила, что буду писать, не привнося никаких интерпретаций и комментариев, поскольку сам по себе опыт войны, в том числе телесный, достоин внимания и не нуждается в информационных помехах. Какой телесный? Ну хотя бы в первые дни войны очень болели мышцы из-за психологического напряжения. Совсем не хотелось есть, но хотелось сладкого. И так далее. И все казалось очень ярким. Вероятно, это из-за высокого уровня адреналина, окружающий мир был ярким, каждая эмоция была яркой… Потом это прошло. Сейчас, после третьего года, это, конечно, усталость. И держимся мы уже, скорее, потому что война стала рутиной. Мы приспособились. Ну это примерно как приспособиться к тому, что Россия бьет по нашим электростанциям и трансформаторам — у нас есть пауэрбанки, аккумуляторы, мы следим, чтобы телефоны были заряжены, это утомляет, но это работает.
Конечно, известная доля лукавства (или хотя бы умолчания) в этом дневнике есть. Я, например, не писала про всякие сугубо личные дела, например, с каким трудом Аркадий, мой муж, и благодаря каким людям, которые за него просили и хлопотали, получил постоянный вид на жительство (документы были уже в процессе, когда ракеты пошли на Одессу). Как и чем я зарабатываю и кто мне помогает (а если бы нам не помогали, мы бы не выжили), как нам удалось найти безопасное жилье (если честно, это дом родственников, он нуждался в присмотре, а мы нуждались в крыше над головой) и так далее. Но мне казалось, что сама я не так важна, как то, что происходит вокруг, важна картина войны, то, чего с нами не было никогда, а теперь вот есть. И здесь требуется оптика бесстрастного наблюдателя, просто глаза, а не все вот это. Вообще я старалась избежать тех пассажей, где задействованы другие люди, из-за этого текст получился обедненным. Но я не могу писать про то, что вне моей зоны ответственности, текст сейчас это нечто вроде газа, он заполняет весь информационный объем, и я не хочу, чтобы кому-то было неловко или плохо, всем и так плохо.
Что еще. В первые дни войны была страшная растерянность. Куда бежать? Что делать? Вот объявили воздушную тревогу? И что? У нас был опыт фильмов и книг, старый, не наш — если тревога, надо занавешивать окна шторами? Чтобы ни один луч света? Просто выключать везде свет? А бежать куда? В подвал? Погреб? А если нету подвала или погреба (при обстрелах погреб многих спасал, кстати). Надо ли запасать продукты? Воду? В каком количестве? Ну и так далее. Это теперь мы всё знаем. С такого-то аэродрома в России взлетели столько-то МИГов с ракетами на борту. Вероятны пуски тогда-то и тогда-то. Пуски состоялись. Ракеты летят в таком-то направлении… Подлетное время такое-то. И ты сидишь и ждешь. Или занимаешься своими делами. Потому что невозможно же просто сидеть и ждать постоянно, МИГи взлетают то и дело.
У нас, кстати, в Одессе, очень короткое подлетное время. Я даже не успеваю испугаться.
Что еще? Я год после начала большой войны не писала стихов, седьмой мой сборник я закончила как раз в феврале, меня очень торопил хороший российский издатель, потом, естественно, торопить перестал и ни разу с тех пор со мной не связался, ну и я с ним, разумеется, книга вышла в Штатах, билингва, огромное спасибо и издателю, и Эйнсли Морс, которая ее продвигала и переводила тексты, и Анне Гальберштадт, еще одной переводчице, и Полине Барсковой, автору предисловия… Так вот, я отвлеклась, в этой книге, которую я закончила ДО 24 ФЕВРАЛЯ, был такой текст…
Что там, спрашивает она, что там?
Мне отсюда ничего не видно, не слышно,
Он говорит, алеют черешни, вишни,
тут всегда бывают ярмарки по субботам.
Тетки в пестрых платках продают пирожки и пиво,
Свежую рыбу утреннего улова,
Жалко, что ты не видишь, какой красивый
Домик смотрителя в мальвах, розовых и лиловых.
Скоро приедем к морю, выйдем на полустанке,
Кажется, даже отсюда слышу я шум прибоя.
Что ты, какие танки? Господь с тобою.
Она лежит, отвернувшись к стенке.
Он смотрит в окно, там над крышами что-то вроде
Зарева, не существующего в природе,
Низкое небо, в котором тяжел и жирен
Пар из градирен или не из градирен.
Ладно, говорит он, начнем сначала,
Вот, говорит он, вроде и полегчало.
То есть я уверена была, что война будет. В России (а мы приезжали в Москву осенью, успели выехать уже после Нового года, в начале января), все дышало войной и каким-то странным безумием разрушения — в том числе и окружающего, еще сохранившего остатки человечности, пространства.
Уже потом, на второй год войны, я начала писать стихи вновь, и это была совсем другая книга, очень отличная от того, что я делала раньше, она представляет собой фактически художественную форму того же самого дневника, попытка как-то осмыслить опыт, который вообще осмыслению не поддается. Она, кстати, вышла в том же Freedom Letters и называется «Ниневия». Но я не только не могла писать. Парадоксально то, что я и читать не могла. Я могла только перечитывать какую-то комфортную литературу, Агату Кристи, например, причем не на русском. Всё, что угодно, только не на русском. Я перечитала всю Агату Кристи, что была в доме. Читать я начала только сейчас, и то как-то косо и криво. Что-то зацепило, и я сумела дочитать до конца. Что-то нет, и я отложила навсегда. Я перестала читать стихи, особенно стихи на русском языке, если они рифмованные и в столбик. Верлибры могу. То есть это даже не отторжение языка, это отторжение информационных пакетов, некоторой формы информации, которая не нужна, бесполезна: в какой-то момент я с ужасом поняла, что не могу вспомнить ни одного стихотворного текста. Хотя что-то зацепилось в голове и сидело там, например, «Я ехала домой» Дельфинова или стихотворение про сову Ольги Дерновой, почему человека, когда его мир рушится, может поддержать стихотворение про сову, фонари и ножи, это удивительный и загадочный факт.
С одной стороны — да, стихи, особенно регулярные, воспринимаются плохо, с другой, я начала принимать фенибут, когда заметила, что внутри головы продолжаю цитировать сама себе от начала до конца и опять сначала «Собаку на сене» в переводе Лозинского и не могу остановиться. Я только-только просыпалась и уже строчки крутились в голове. Это означает, что в мозгу присутствует стойкий очаг возбуждения, негаснущий, который подпитывает сам себя, показатель и одновременно дополнительный источник нервного истощения, потому что на замкнутом цикле мозг высаживается, конечно.
У меня больше никогда не будет своей библиотеки. Она не нужна. Всё закончилось.
Я больше никогда не буду заниматься фантастической литературой, писать ее, анализировать ее. Мир абсурден. Он не нуждается в дополнительном невероятном. Но это, кстати, относится только ко мне — я знаю людей в Украине, которые за это время написали толстенные истории, фэнтези и НФ, чем я искренне восхищена. Но сама — нет, не могу.
Я пишу это не для того, чтобы пожаловаться или похвастаться — это о том, как организм реагирует на долговременный стресс.
Что еще? В начале войны я вообще не понимала, как мои бывшие друзья, которые остались в России, могут писать, как они ходили на концерты, например, или путешествовали по Золотому кольцу и хорошо покушали там-то и там-то. Или как они могут участвовать в книжных салонах. Я их ненавидела. Я считала, что они в ненормальной ситуации создают видимость нормы, а следовательно, пособники преступников. Извините. И я ходила к ним в статусы и все это им говорила. Но сейчас я ко многим вещам отношусь гораздо, если не мягче, то равнодушнее. Кто-то, возможно, наоборот, молодец, что пытается как-то сохранить человеческое, ординарное в этом безумии. Кто-то даже остался у меня в формальных друзьях. Я им не судья. Они взрослые люди и отвечают сами за себя.
Спасибо тем, кто не захотел участвовать в преступлении государства, гражданами которого они оказались просто в силу геополитической ситуации, и выехал, вы сохранили мою веру в человечество.
Спасибо тем, кто остался и не побоялся поднять голос против зла, тем, кто переправляет интернированных украинцев в безопасные места, лечит и укрывает, дает временный приют, тем, кто помогает в розыске пленных, всем, кто сидит «за дискредитацию»… Мы не знаем, сколько вас. Мы узнаем потом. Вы — цвет нации.
Если вы выехали из Украины, бежали от войны, ок, это нормально. Но если вы вещаете оттуда, как нам жить или воспринимать то и это, это раздражает. Перестаньте нас учить. Вообще не лезьте в наши дела. Только донатьте. Всё. Бывшие одесситы (уехавшие давно, до войны) раздражают. Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь. Это больше не ваш город.
Консервы вскрылись. Они думают, их не видно, но их видно. А были такие важные, такие упакованные, с такой хорошей репутацией и кучей подписчиков.
Что еще? Я думаю, каждый из нас, кто пережил эти три года, на чем-то сломался. Я сломалась на животных. На всех, кто остался в сожженных городах. Кого бросили хозяева. Кто утонул в водах Каховского водохранилища. Кто подорвался на мине. Посечен снарядом насмерть во время прогулки с хозяевами. Кого волонтеры вывозят, рискуя жизнью, из обстреливаемых территорий. Я, когда думаю об этом, начинаю сразу плакать. Это уже рефлекс. Я никогда этого не прощу.
Что еще? Я сознательно не писала ничего, что не относилось ко мне лично, воспринимая это именно как дневник одного человека. Но из-за этого пропущено очень многое из того, чем мы жили — все новости, вся военная хроника, всё осталось за кадром. В том числе бомбардировка театра в Мариуполе, противостояние «Азовстали», открывшиеся после отступления российских войск страшные кадры в Буче. Сейчас я думаю, это было ошибочным решением, тогда казалось — какой смысл заполнять дневник тем, что и так находится на первых новостных полосах, это как бы спекуляция чужим горем, присвоение его. Но на самом деле все это происходило параллельно и одновременно, на фоне жизни, а сейчас привязать какие-то перекрестные ссылки практически невозможно, все ушло.
Что еще? Я писала, что мне до сих пор снится устойчивый кошмар, что я в России и не могу выехать. Так вот, он мне снится до сих пор. Я до сих пор просыпаюсь и думаю, какое счастье, воздушная тревога, я дома.
Я рада, что мой муж похоронен на родине, он бы этого хотел. Мне ненавистна была сама мысль, что он или я бы лежали в суглинке на каком-то подмосковном кладбище, в мертвой промзоне, в чужой, по большому счету, и злобной земле.
Жалею ли я, что так все сложилось? Нет. Наоборот. Я считаю, мне очень повезло.
Да, еще — я ничего не буду менять в тексте, но внесу некоторые комментарии в сносках. Поскольку время прошло, и кое-какая оптика изменилась. Сейчас даже странно многое перечитывать, казалось, оно так много значит, каждая подробность, каждая новость. Но они вытеснены, заслонены другими новостями — наверное, в этом и был смысл, сохранить то, что уходит очень быстро. Вообще в условиях войны и психология меняется быстро, я помню, как первое время боялась выходить под открытое небо, сейчас уже не боюсь, хотя опасность не стала меньше, но механизм ее понятней. И в конце концов дрон или ракета могут достать тебя где угодно.
Да, и еще. На самом деле это про мирную жизнь. Просто она вот такая.
Есть ли в Одессе те, кого называют «ждуны»? Полагаю, да, поскольку российская пропаганда была в высшей степени эффективной. И «консервы» тут тоже есть. И те, кто просто устал. И те, кто убегает от мобилизации. И взяточники. И рвачи. Все это есть. Три года войны — это много. Я никогда не идеализировала Одессу, хотя, пожалуй, недооценивала ее. Но ясно одно. Чем дальше, тем больше Одесса перестает быть «русским городом». Точнее, уже перестала им быть. Россия для этого сделала все возможное.
Про язык. Зачем и почему я все это написала. Украинцам незачем рассказывать, что и как у нас происходит, они и так знают. Я пишу это по-русски, чтобы прочли вы.
Почему-то, когда заходит речь об Одессе, иностранные журналисты всегда спрашивают про язык. Их интересует, что тут с русским языком. Какая разница, важнее то, что на нас падают русские ракеты.
Кажется, это всё.
И спасибо Михаилу Гринбергу, первому издателю. Вообще всем спасибо.
2025
«Как вы там, дорогие?»
«Автобиографические заметки настырно требуют сюжета или драмы», — пишет Мария Галина. В ее дневнике последнего года есть и то, и другое. Об этом позаботились те, кого автор называет просто «эти».
Маша и ее муж Аркадий Штыпель детство и юность провели в Украине, но потом переехали в Москву, он — в конце 1960-х, она — лет на 20 позже. Маша — замечательный поэт, автор нескольких романов, работала в журнале «Новый мир». Аркадий — поэт и переводчик с английского на русский и с русского на украинский. Оба они были неотъемлемой частью московского литературного пейзажа, завсегдатаями поэтических вечеров.
В середине января 2022 года, когда стало ясно, что в любой момент Россия может начать войну против Украины, Маша и Аркадий уехали в Одессу. «Еще в девяностых в Одессе висел бигборд „Батьківщину не обирають! Обирають її незалежність“, — пишет Галина. — На самом деле бывает, что и родину выбирают. Когда можно выбрать, это еще не худший вариант». Тут, наверное, полагалось бы ввернуть что-то штампованное о неизбежной драматичности такого выбора, о мучительной борьбе идентичностей и т. п. Но в случае Маши и Аркадия возвращение в Одессу выглядит настолько естественным, что любая драматизация их переезда была бы заведомой фальшью: «В общем и целом, я потеряла город, в котором жила тридцать лет, квартиру, работу и, кажется, гражданство. Да и хрен с ним».
Войны как таковой в записях Галиной почти нет: «С тех пор, как я веду этот дневник, я не пишу, ну или почти не пишу, о военных новостях. Они обновляются каждые десять–пятнадцать минут и в то же время как бы стоят на месте»; «К войне тоже привыкаешь. Ну взрыв. Ну ПВО. Ну сбили что-то. Потом расскажут, что такое они сбили»; «А, забыла сказать, вчера бахнуло так неслабо». Иногда возникают какие-то промежуточные итоги — за месяц, за сезон: «Украина начала огрызаться — и с каждым днем все лучше и лучше. Она бьет по узлам связи, по складам с оружием, по командным пунктам. Наглый Крым, так хваставшийся своей безопасностью, тоже узнал, что такое взрывы и сирены воздушной тревоги».
Эти записи не о войне, а о той новой повседневности, которая вызвана и порождена войной. Нормальная вроде бы жизнь («По крайней мере, с виду очень напоминает обычную. Транспорт ходит, мусор убирают. Интернет работает. Дрова привезли нам на дом, думаем, не прикупить ли еще литров пять–десять вина от частного винодела») — но в постоянном присутствии войны, воздушной тревоги, фронтовых сводок. Зарисовки, шутки, анекдоты — всё тут из этой новой реальности и о ней.
Вот, например, прекрасная вставная новелла от кого-то неназванного: «Мужа отпустили с передовой на сутки. Так он стоит под домом и мне по телефону, а четыре же утра… Я думаю, ну всё, если так рано, значит, это про него. Что с ним что-то, ну, что-то… А он мне: „Тут пригощают кавой?“ Я ему: „Нет, тут дают по морде“, как же так можно пугать. Сюрприз он мне решил сделать!» Или такое: «Я иногда думаю, что, если придется уходить, надо сжечь дом. А то придут чужие люди и скажут: „Это мое“. Но что делать с животными? Одного кота еще можно унести, но на улице крутится серый…»
Основных сюжетных линий в этом дневнике две, и они отчетливо параллельны. Это фиксация трещины, стремительно становящейся пропастью, между автором и россиянами, между Одессой и русскостью.
Для Одессы, как и для Украины в целом, последние десятилетия стали временем поиска новой идентичности. «Это другой город. Не тот, из которого я уехала», «Это другая Одесса, не та, которую я помнила», — повторяет Галина, заново знакомясь с городом, где жила до начала 1990-х.
Та, прежняя, Одесса запомнилась автору «нервной, амбициозной, провинциальной и натужно острящей», с болезненной памятью о «великом культурном прошлом», с культом «южнорусской школы» (Бабель, Олеша, Ильф и Петров) и жовиального юмора. То был бренд, ориентированный на экспорт, прежде всего на Россию, удобный для тиражирования в СМИ и клиширования в масскульте, вроде восхитившего публику лет 15 назад сериала «Ликвидация» (который Галина считает, так сказать, ранней стадией спецоперации по подготовке «спецоперации»).
За десятилетия независимости возникла новая Одесса — очень европейская, похожая на Львов и Лондон одновременно. Город уютных винных лавочек, джазовых концертов, ухоженных спаниелей и женщин, гуляющих по пляжу с какаду на плече. Слегка запущенный, но зато по-европейски демократичный, в отличие от снобистской Москвы.
Впрочем, война многократно ускорила перемены и направила их в другую сторону. Теперь появляется третья Одесса, избавляющаяся от «имиджа теплого расслабленного города» и превращающаяся в «грозный морской форпост», лицо которого будут определять не только художники и музыканты, но и военные моряки.
Наконец, главный, автобиографический сюжет. Он сформулирован уже в датировке этих записей, вынесенной в подзаголовок. «Февраль 2022 — лютий 2023» — от русского к украинскому (календарю, языку, мироощущению — список, разумеется, можно продолжать), от московской жизни — к одесской, от прежних общностей — к новым. Это отсылка к приводимому Галиной анекдоту:
«Откуда вы так хорошо знаете украинский? — Очень просто, мы заснули двадцать третьего февраля, а прокинулися двадцять четвертого лютого…»
«Очень раздражает, когда с той стороны рассказывают про свои новые книги и литературные вечера»; «Очень все в России обижаются на призыв Зеленского к Евросоюзу отменить россиянам туристические визы. Вся российская френдлента стонет про канселинг и расчеловечивание. Как будто это важно. Это не важно. Но им кажется, что важно»; «Обматерила их [организаторов «круглого стола» на Московской книжной ярмарке] на трех страницах в фейсбуке — официальной, милой женщины и собственной».
И вот тут я, признаться, спотыкаюсь. «Пережитое вместе — объединяет», — пишет автор в эпилоге. А прожитое порознь — разъединяет (это уже я добавляю). В отличие от Маши, я первые месяцы войны провел в Москве, и если не ходил на «круглые столы» и литературные тусовки, то только потому, что понимал — скоро придется уехать, и сидел все свободное время в архивах и библиотеках, копируя все, что может понадобиться потом для работы. А про свою книгу в соцсетях писал, разумеется, — правда, из-за границы уже (она вышла буквально через несколько дней после моего отъезда). И из-за отмены виз и закрытия границ переживал — это же мне и моим знакомым затрудняли пути к отступлению.
Это история не о том, что кто-то прав, а кто-то нет, а о той самой трещине, ставшей пропастью. Из обстреливаемой Одессы выглядит так, из растерянной Москвы — иначе. И ничего с этим не сделаешь — два разных опыта, разных контекста, две разные жизни. Так что одни по-прежнему будут радоваться яркому спектаклю, а другие упрекать радующихся в бесчувственности, а первые, в свою очередь, — недоумевать и переживать по поводу этих упреков. Все дело банально в том, как ты провел этот последний год и с кем себя соотносишь. Как пишет Маша Галина, русскоязычный сегмент соцсетей для нее — скорее объект наблюдения и изучения, даже те, «кто сохранил трезвую голову и не поврежден этически». Интересное, в каких-то островках даже симпатичное, но далекое и чужое. А украинский — это свои, это «сигналы фонариком в темноте, мы есть, мы существуем. Перекличка голосов. Харьков, как вы там? Отзовитесь. Киев, все целы? Одесса, как вы там, дорогие?».
При всем том совпадающих ощущений, кажется/надеюсь, все-таки больше. Один из главных триггеров для Галиной — полная бесповодность этой войны, всех смертей и разрушений: «Фотографии погибших воинов на новостных сайтах, красивые веселые люди, они могли жить и сделать счастливыми своих женщин, а больше этого никогда не будет, потому что в чужой холодной стране какой-то невнятный человечек маленького роста, в ботинках со скрытым каблуком, решил все за них». Сознанию и душе нормального человека трудно примириться с существованием химически чистого зла, беспримесного абсурда, тотального вранья, и человек все всматривается в этот мрак и, понимая, что ответа не будет, что никакого рационального объяснения быть не может, все-таки спрашивает сам себя: «Зачем? Почему? Ради чего? Чтобы что?».
И еще замечательно точное ощущение: «Райское изобилие районного рынка. Купила по дешевке крохотную, с палец, тюльку, щечки сазана (что это значит?), сладкий перец, молодую картошку, каждая примерно с воронье яйцо. Более-менее дорого фаршированную куриную шейку и домашнюю колбасу. Каждый раз думаешь: вот это жизнь, которой может не быть». Тут схвачено главное: люди из «чужой холодной страны», те, кто все это начал и продолжает, воюют именно с этим — с запахами, вкусами, с жизнью как таковой. «Танки идут на запах/сытых чужих квартир», — как отчеканил один z-поэт. Не орки — скорее дементоры, питающиеся чужой радостью, чужим уютом, за неимением своего. Ущербные, полые, бессмысленные существа, умеющие только разрушать.
Впрочем, эта книга не о них и не о мороке, порожденном ими. Она о возвращении человека в свой город. Об обретении дома. Одиссей снова добрался до Итаки — и это благая весть. «Постоянно снится, что оказалась в Москве (зачем-то вернулась, за какими-то документами, кажется) и теперь не могу выбраться обратно. Просыпаюсь с чувством огромного облегчения. Я в Одессе, воздушная тревога, всё в порядке».
Михаил Эдельштейн
Как началось
Мы расплачиваемся российской виза-картой, говорила я, а украинскую пока не трогаем. А то начнется война и российскую заблокируют. И мы потеряем все деньги. Но потом подумала, надо все-таки снять с нее все наличные, потом невозможно будет — и успела, за день перед войной. Если в пересчете на доллары, то там было примерно триста.
Я всегда все пересчитываю на доллары, еще с начала девяностых, когда инфляция не позволяла сопоставить цены. А в долларах сразу понятно, что сколько стоит. Когда попала в Штаты, все умилялась, как удобно, ничего не надо пересчитывать.
Да, так вот… Я понимала, что война будет, но не хотела верить до конца, а то успели бы продать там квартиру, а не дернули на историческую родину с двумя чемоданами и одним видом на жительство. В середине января мы уже искали съемное жилье в Одессе. По крайней мере на первое время, говорила я себе.
Одесса не то чтобы мой родной город, но я тут росла и училась [1].
Как мы ехали
Сообщения между Россией и Украиной на самом деле нет. В марте 2020-го, в начале эпидемии ковида, от Киевского вокзала отошел последний украинский поезд (российские не ходили с 2014-го, с аннексии Крыма, а вот украинские ходили, что, конечно, парадокс).
Но вы, конечно, спросите про сообщение между странами. Так вот, от Москвы ходили автобусы украинских перевозчиков, с украинскими номерами, с желто-синим флажком, от вокзала на юго-западе Москвы через всю Центральную Россию. Эти автобусы останавливались на российской границе. Там всех пассажиров высаживали с багажом на таможенный и паспортный досмотр в таком длинном холодном одноэтажном здании барачного типа. Границу эту обычно пересекали часа в два ночи, сонные пассажиры выходили и становились в очередь, сонные таможенники запускали транспортер — или не запускали, а так. Потом приходили сонные пограничники и садились каждый в такую будочку на пропускном пункте. То есть две будочки и две очереди к ним. Над каждой будочкой укреплено зеркало, чтобы видеть затылки пассажиров. Сначала выпускали всех, а когда начался ковид, уже не всех, потому что вышло какое-то постановление. Люди делались невыездными постепенно, под самыми разнообразными предлогами. В данном случае предлогом был ковид.
Кого пропускали? Людей с украинскими паспортами всех, а с российскими только тех, кто ехал к ближайшим родственникам (свидетельство о браке? Свидетельство о рождении?). Обычно такие документы проводники проверяли еще при посадке в автобус, а то потом возиться с отказниками… Пропускали тех, у кого вид на жительство. И еще тех, кто едет на лечение, со справкой. По-моему, образовалась целая индустрия по выдаче таких справок, всегда на каждое ограничение находится способ, как это ограничение обойти.
В последний, 2021 год поговаривали, что тем, кто ехал на работу (их тоже пропускали), нужно было заранее зарегистрироваться в каких-то списках ФСБ, но это не точно. Или точно. То есть такие списки вроде были, но на границе их не проверяли. Или проверяли. В общем, все было как-то мутно, что, как всегда, делало ситуацию переносимой.
Тех, кого проверили и выпустили (уффф, ура, ура!) выпускали из другой, дальней двери, и они с вещами, гуськом шли (по крайней мере на этом пропускном пункте, он назывался в обиходе «Три Сестры», потому что находился на стыке трех кордонов, туда не ходите, это белорусская граница, вам не налево, а направо, запомнили? От развилки и направо) со всеми своими чемоданами, клунками и пакунками под холодным утренним светом, так вот, шли по нейтральной полосе, обсаженной кустами, полтора километра до украинского кордона… Почему-то всегда казалось, что, когда пересекаешь невидимую черту, становится теплее… На той стороне, где вместо транспортера для вещей был столик таможни под навесом, а пограничники говорили «дозвольте ваши пальчики», ждал другой автобус, который привез пассажиров, едущих в обратную сторону, а теперь освободился от них и стоял себе… С точки зрения истеричных ковидных мер и запретов на передвижение это выглядело несколько абсурдно. К этому времени чихали и кашляли почти все. Ждал этот автобус иногда часами — пока улаживали вопрос с проблемными пассажирами на российской границе (иногда получалось, иногда нет, тогда их отправляли обратно на том же автобусе, что… в общем, налаженная система). Но, как бы это сказать, не слишком комфортная. Тем более, эти автобусы были большей частью старые, часто ломались и ходили не то чтобы регулярно.