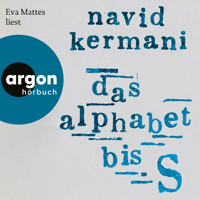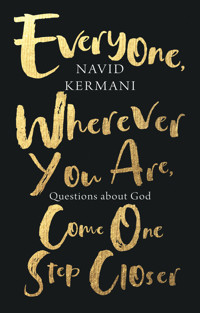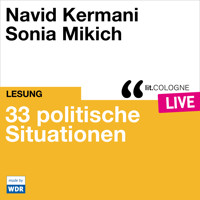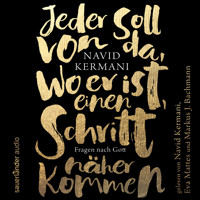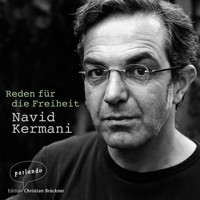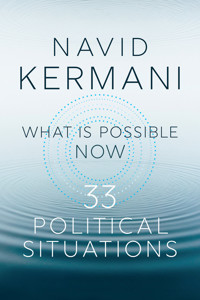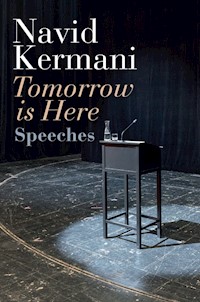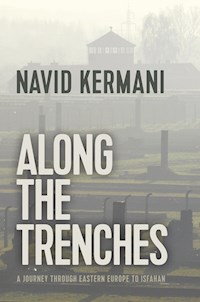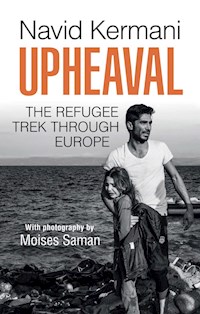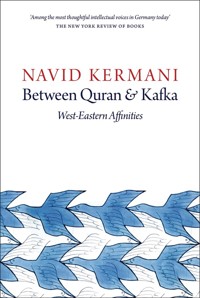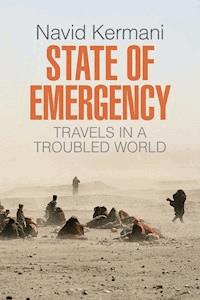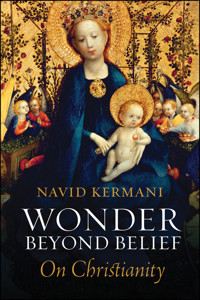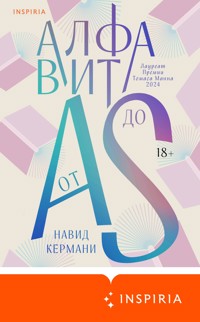
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Инспирия
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Популярная писательница иранского происхождения переживает непростые времена. Под угрозой оказывается ее карьера, которой она посвятила всю жизнь и ради которой от многого отказалась. За поддержкой она обращается к книгам — решает перебрать домашнюю библиотеку, расставить книги по алфавиту и прочитать те, что никогда не читала. Героиня беседует с ними, как с живыми людьми — зацепившись за ту или иную мысль, она проецирует ее на окружающую действительность, политические события, свою личную жизнь: смерть матери, развод с мужем, болезнь сына. Ее размышления наполнены воспоминаниями о юности — эмансипации в 16 лет, сложных отношениях с родителями, поисках своего места в мире. Эта книга по сути своей — признание в любви литературе: роман, дневник, эссе и исследование себя в одном флаконе.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Навид Кермани Алфавит от A до S
Loft. Книги о книгах
Navid Kermani
DAS ALPHABET BIS S
Copyright © 2023 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Перевод с немецкого Аделии Зубаревой
Благодарим Александру Шалашову за помощь, в переводе некоторых стихотворений.
© Зубарева А., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Зима
1
Навестив могилу матери, которую привел в порядок кладбищенский садовник, ощущаю своего рода утешение: темно-коричневый прямоугольник земли, рыхлой, как торф, аккуратно выровнен. Участок достаточно большой, чтобы вместить и отца, и меня, и будущие поколения. Мой сын уже заявил, что хочет покоиться с семьей, когда придет его время. В качестве маркировки и простого украшения на нижних углах могилы лежат две квадратные каменные плиты, и благодаря цветочным венкам она больше похожа на клумбу, чем на место погребения. Верхняя часть участка заметно повернута в сторону Мекки, что отличает мамину могилу от соседних. За две недели земля не успела просесть, а венки – увянуть. Деревянная табличка с арабской «Бисмилля» тоже выделяется среди немецких могил, как и имя, написанное задом наперед – из-за недосмотра шиитского погребального служащего. По крайней мере, неверный год рождения – не его вина; мы сами должны были сказать, что в паспорте он указан неправильно. В прошлом на такие вещи в Иране смотрели сквозь пальцы. Встает вопрос: посмотреть ли и нам на случившееся сквозь пальцы и подождать, пока табличку заменят на надгробие, или заменить ее самим?
Отец хотел посетить могилу вчера, перед праздником, который в этом году праздником не был, но мы приехали слишком поздно – кладбище без предупреждений и объяснений закрылось на час раньше. В четверть пятого еще можно было выйти, но не войти, и перед нами открылся странный вид: пока одни выходили через тяжелую железную калитку на улицу, словно воскресшие, другие напрасно трясли ворота, как будто им отказывали в смерти. Некоторые опоздавшие оставляли букеты на кладбищенской стене или перебрасывали через нее. Эти цветы становятся данью всем покойным, что, возможно, даже более значимый жест.
Что такое горе? Даже отец взял себя в руки – по крайней мере, так может показаться со стороны. Делаешь все, что считаешь своим долгом или воображаешь таковым, вплетаешь привычные дела в свой день, хотя без строгого расписания это дается с трудом, было бы проще, если бы ты каждое утро вставала на работу. Снова смеешься (да, смеешься!), пусть и не слишком часто, избегаешь праздников, но с благодарностью идешь в кино или на концерт, где можно отпустить тревожные мысли и отдохнуть. Ты вспоминаешь, что жива, и смотришь на мир и людей с бóльшей нежностью, потому что острее осознаешь их недолговечность. Становишься добрее обычного, как и люди вокруг. Ты смогла бы ощутить желание, если бы было к кому, и не чувствовала бы стыда ни перед умершей матерью, ни перед мужчиной, который больше не с тобой. Ты могла бы забыться и обрести освобождение хотя бы на несколько долей секунды, которые никто не считает.
Новогоднюю ночь мы встречали вчетвером: мой отец, которого я не хотела оставлять одного, мой сын и моя лучшая подруга, которая, в свою очередь, не хотела оставлять меня одну. Она приготовила шницели с картофельным салатом, а на десерт – мороженое, чтобы все было просто. «Настоящая немецкая еда», – как одобрительно отметил отец. Места за столом, где сидели моя мать и муж, остались незанятыми. Похоже, что горе усиливает сердечную боль и наоборот. По крайней мере, я едва ли могу различить их, все сливается в одно неожиданно глубокое чувство. Горе и боль похожи, что удивительно. Тот, кто еще недавно был самым близким, даже во время ссор все равно остававшийся родным человеком, стал незнакомцем. Нет, даже хуже, ведь с незнакомцем можно познакомиться, выпить чаю, поговорить. Любовь ушла, и ему больше нельзя позвонить просто так, только по какому-то вопросу, будто он консультант по банковским продуктам или оператор службы поддержки железной дороги. Мне кажется, я не выглядела подавленной, тем не менее никто не пытался уговорить меня пойти с подругой на вечеринку после полуночи, даже сын не упрашивал меня заняться то одним, то другим, и оба этих факта – приятный ужин и то, что другие все равно чувствовали мое горе или разделяли его, – оказались кстати. Как и каждый год, в полночь мы встретились с соседями на крыше, чтобы поднять бокалы. Двое из них помогли отцу подняться по лестнице, чтобы и он смог увидеть освещенный собор, казавшийся частью фейерверка. Вот что такое горе: когда счастье, которое существует, больше не проникает в тебя. Ты видишь его, оно здесь, и ты кланяешься ему или пожимаешь руку, как посетителю у могилы, но не более того.
2
Вечером иду в кино – уже третий раз за неделю, потому что до этого почти пять месяцев не ходила. Со времен романтизма сюжеты почти не меняются: ничего не подозревающий герой выходит из дома, и… на него обрушивается реальность, которая изменяет его жизнь – либо разрушает, либо очищает, все зависит от режиссера, жанра и страны. Но что же будет потом? Мне интересно, я с нетерпением, как в кинотеатре, жду, что будет дальше – в этом году, на этой неделе, завтра. Будет ли что-то после перемен, очищения, разрушения? Продолжится ли та высшая степень, которая проявляется в виде врачей скорой помощи, семейных судов или отца, который еще не знает, останется ли ему от жизни что-то большее, чем быстрая или медленная смерть?
3
Реальность: утром я составляла список тех, кого пригласить на Чехелом, исламский аналог шестинедельной панихиды, но очередной звонок снова прервал мои дела. Вчера вечером пришлось оставить отца в больнице. Он просил передать родственникам, чтобы те ему не звонили – это его не порадует, а только расстроит. По крайней мере, из его палаты открывается вид на собор.
В этом дневнике – дневнике без дат, каким я его себе представляла, – не должно быть каких-либо упоминаний обо мне. Только о том, что видят глаза и слышат уши, которые являются моими. Но даже хроникер, репортер, свидетель не может полностью избавиться от чувств. В такие дни, как сегодня, я не могу зафиксировать впечатление, которое действительно имеет для меня значение. Глаза закрываются, как только я сажусь за стол, но, если я ложусь в постель, тревоги разгоняют сон. Неужели сегодня не произошло ничего, о чем можно было бы сообщить, не передавая своего настроения и не раскрывая свою личную жизнь – хотя бы один момент, одно наблюдение, в котором я была бы только глазами и ушами, без настроений и личных переживаний?
Выйдя из больницы, я наконец-то перезвонила редактору. Она не сердилась за мое долгое молчание, но черновые главы нужно было срочно отправить.
Я должна была скорее вернуться к сыну, который ждал дома, и купить хлеба по дороге. Пока редактор решала, какую главу предложить газете – о Мали, Йемене или Чечне, я шла по пригородному району, пустому, как деревня после рабочего дня, с несколькими освещенными магазинами и убогими трехэтажными домами послевоенной постройки, которые жители благополучных районов видят разве что по телевизору. Вероятно, до войны вокруг были поля, которые не пришлось расчищать от руин для застройки, а позже здесь построили больницу, чтобы в районе было что-то, кроме дешевого жилья.
– Может, возьмем езидов? – спросила я редактора, которая тем временем представляла, как я ищу пекарню на северной окраине Кёльна. Я прервала разговор, только когда подошла моя очередь, купила одну из трех оставшихся буханок хлеба и, уже расплачиваясь, вернулась к теме Исламского государства [1].
– Они на слуху, – ответила редактор, объясняя, почему фронтовой репортаж из Ирака показался ей недостаточно оригинальным для публикации. – Тогда уж лучше Донбасс.
Оказавшись в машине, я пробовала положить телефон – маленькую «Нокию», с помощью которой я демонстрирую свою приверженность культурной критике, – и так, и эдак: клала на колени, зажимала между бедрами, прислоняла к коробке передач и по просьбе редактора даже включила двигатель, чтобы проверить, слышим ли мы друг друга во время движения.
– Давай обсудим Мьянму.
Возвращаясь в центр по все более оживленным улицам ночного города, я вспоминала лагерь беженцев в Бангладеш. Я на удивление быстро нашла свободное место – редкое везение! – и припарковалась с первой попытки, поэтому, когда входила в квартиру и целовала сына в лоб, я все еще говорила о рохинджа. Еще одно редкое событие – ему понравился простой ржаной хлеб, действительно очень вкусный, с кисловатым привкусом и плотным мякишем. Из такого хлеба мама делала нам с сестрами бутерброды в школу.
– Если книга станет успешной, я куплю себе гарнитуру, – весело объявила я.
– Без смартфона она тебе мало чем поможет, – заметил сын.
4
Краем глаза наблюдаю за разворачивающейся за соседним столиком драмой: все идет по канонам – от сдержанных криков до слез и примирительного бокала просекко. Правда, драма разыгрывается между двумя женщинами, но слова, жесты и даже распределение ролей могли бы принадлежать любой другой паре нашего возраста и социального положения. Ужасно видеть собственные гримасы в неискаженном зеркале. Искажены наши отношения, в которых каждый хочет быть собой, а не другим, так мы были научены и не можем избавиться от этих ложных знаний. Среди наших друзей не осталось ни одной пары нашего возраста и положения, которая еще бы могла примириться за бокалом просекко. Вместо этого после слез приходит чувство вины и осознание, что у детей не будет полной семьи. Насколько глубоко развод травмирует детей, если даже у взрослых остается впечатление, будто их бросили мать или отец или оба сразу?
Если бы за соседним столом вместо незнакомок ссорилась пара из нашего круга друзей, я бы все равно спросила себя «кто они такие?». Я бы их не узнала, потому что каждый из них выставляет другого в плохом свете. Если рядом друг с другом они становятся худшими версиями себя, то, возможно, им действительно лучше расстаться. Ведь именно благодаря любви, гармонии и единству, которые царили между ними до недавнего времени, их сын стал таким замечательным, сильным и сострадательным. До самого конца они оставались нежными друг с другом, даже когда разрыв уже был неизбежен, как будто их тела еще не осознали того, что произошло с их душами. И краем глаза я словно наблюдаю и за нами.
5
Ослепляет вспышка дорожной камеры, и на одну десятую долю секунды, когда видишь только красный свет, – самый банальный момент в мире, за которым следует мимолетный взгляд на спидометр, тебя каждый раз пронзает, словно током. Вдруг все вокруг перестает существовать, тебя разом вырывает из забот, печалей и размышлений, возможно, из сексуальной фантазии или даже влюбленности. Кажется, будто тебя настигла некая высшая сила, узнавшая обо всем, что ты натворил… А потом понимаешь: дело всего лишь в превышении скорости. И чувствуешь почти облегчение: скорость где-то между шестьюдесятью и семьюдесятью, а с учетом погрешности – скорее всего, меньше шестидесяти. В жизни есть более серьезные ошибки, которые ты совершила.
6
Омовение покойника. Никогда бы не подумала, что какое-то событие сможет потрясти меня сильнее, чем рождение ребенка, настолько сильно, что осознаешь это только с запозданием. По сравнению с этим смерть казалась почти естественной, во всяком случае не неожиданной – переходом, о котором я столько слышала и читала, и именно так оно и произошло: дыхание остановилось, и я продолжала смотреть на маму еще какое-то время, словно ей вслед. Что-то живое еще оставалось в комнате. При рождении направление противоположное – прижимаешь к груди существо, которое только что появилось на свет, тебя охватывает удивление, переходящее в радость и восторг. У маминого смертного одра я, пережив первый шок и проронив немного слез, оставалась спокойной, внимательной и с ясным разумом, радуясь, что мама ушла мирно, одна рука лежала у нее на животе, другая – вдоль тела, а лицо как будто помолодело на десятилетия. Только во время погребальной молитвы, когда присоединился имам, слезы прорвались наружу, и даже это казалось правильным.
С чем-то абсолютно необъяснимым, как при рождении, я столкнулась только тогда, когда мы омывали мамино ледяное тело под чутким и нежным руководством омывальщицы из мечети. Этот неспешный процесс был не таким ужасным, как я предполагала. Даже запах казался правильным. Удивительным было лишь то, что тело все еще здесь, его можно потрогать, но теперь оно – лишь оболочка. Глядя на то, как уважительно и бережно обращаются с мамой после смерти – не так, как в больнице, где она ежедневно подвергалась чужим взглядам и самым унизительным процедурам, я остро ощущала, что человек сохраняет свое достоинство. Омывальщица приподнимала покрывало ровно настолько, насколько это было необходимо, и при этом отворачивала взгляд. Когда каждый миллиметр маминой кожи был омыт, когда ее волосы были ополоснуты после шампуня, а тело окроплено самыми тонкими эссенциями из Ливана и обернуто в белое полотнище, мы вчетвером подняли ее. Видимо, у нас с сестрами возникла одна и та же мысль, во всяком случае, мы удивленно переглянулись: тело оказалось легким, намного легче, чем мы ожидали. Неужели душа так много весила? Повторяя за омывальщицей молитву, мы уложили мать в гроб и долго смотрели на нее.
– У нее такое лицо, будто она уже на небесах, – прошептала одна из нас, – она такая красивая.
– Мама – ангел, – тихо произнесла другая детским голосом.
Наконец омывальщица накрыла лицо тканью.
7
Я в восторге от новой детской с галогеновыми светильниками и аккуратно развешанными картинами и горжусь тем, что мы справились с ремонтом сами, без посторонней помощи, несмотря на то что отец всегда отказывался учить меня сверлить. Он всегда был довольно просвещенным человеком, но считал, что дрель не для женских рук. Теперь руки отца дрожат; когда и третья дыра получилась размером с кулак, он впервые сердито выругался на сбежавшего зятя.
8
Сколько бы книг ты ни написала, сердце каждый раз замирает, как в первый, когда у порога под почтовым ящиком находишь посылку с новой книгой. Ты вскрываешь упаковку не сразу, а в тишине и обязательно в одиночестве, поднимаешься наверх, закрываешь за собой дверь. Сначала рассматриваешь обложку, удивляешься аннотации, как будто не знаешь ее наизусть, снимаешь суперобложку и проводишь рукой по переплету, по буквам на нем, листаешь страницы, задерживаясь на некоторых, и надеешься, что с читателями в книжном магазине будет происходить то же самое. Проверяешь благодарности, если они есть, и почти всегда находишь первую ошибку – ведь чаще всего оплошности случаются на последнем этапе верстки. Если ты все еще довольна книгой, несмотря на мелкие недочеты, то мысленно благодаришь издательство и типографию, которые, словно старинные мастерские, уделили внимание даже незначительным деталям, таким как: широкие поля, ляссе в цвет обложки, прочный переплет, соответствующий содержанию шрифт, экологичная бумага. И благодаришь читателей, которые, кажется, находятся на грани исчезновения, но продолжают тебя поддерживать.
9
Мысленно готовлюсь к поминальной церемонии, и в голову неожиданно, как это часто бывает во время пробежки, приходит идея напечатать траурную речь в виде брошюры – внести свою профессиональную лепту в семью, как другие родственники вносят благодаря работе в юридической, медицинской или финансовой сферах. Заодно вспомнилось одно происшествие, возможно определившее мои последующие отношения с матерью. Это происшествие не вписалось бы в траурную речь, восхваляющую мамины сильные стороны, ведь оно закончилось ее поражением и моей неожиданной, пусть и горькой, победой. На самом деле, как я поняла во время пробежки, тогда мы обе проиграли, как проигрывали и во всех последующих конфликтах на протяжении жизни.
Без разрешения и даже не сообщив свой новый адрес, я переехала в общежитие. Родители думали, что смогут заставить меня вернуться домой – мне было всего шестнадцать; я даже частично понимала их беспокойство, а сейчас так понимаю еще больше. Упрямая, как и отец, я оборвала все контакты, когда конфликт обострился, оборвала связи с иранскими родителями, с иранской матерью! Поначалу она, вероятно, думала, что без денег я скоро сдамся, но, когда поняла, что я действительно не прихожу на обед и даже не звоню, перехватила меня перед школой, которую я продолжала посещать. Конечно, я отказалась садиться в машину. Я думала, что она устроит скандал на глазах у моих одноклассников, начнет кричать, ругаться, обзывать и драматично стенать обо всем, что для меня сделала. Но мама просто смерила меня холодным, прямо-таки ледяным взглядом.
Такого я не ожидала, и помню, что почти рассердилась, предполагая, что это очередная хитрость. Сегодня я думаю, что мама просто устала от моей строптивости. Она была опечалена из-за отъезда двух старших дочерей, с которыми всегда была ближе, и уже не могла или не хотела устраивать скандал. Если я ничего не путаю, то именно тогда, в середине восьмидесятых, брак моих родителей был на грани краха. Добавим сюда разочарование в иранской революции, войну с Ираком и беспокойство о племяннике, которого арестовали, – и разве не тогда у нее началась менопауза?.. Не знаю, я не думала об этом в свои шестнадцать, я думала только о себе и о свободе, которую сулила жизнь в общежитии. Только мамина угроза без всяких сожалений выбросить все мои вещи на свалку, если я не вернусь домой, независимо от того, что скажет отец, – только эта угроза принесла облегчение, потому что привела к привычной ссоре. Во-первых, я не восприняла угрозу всерьез, а во‑вторых, даже хотела, чтобы мои одноклассники сами увидели ярость моей матери, – думала, что так они лучше меня поймут. Мать кричала во весь голос, я отвечала, но, по крайней мере, она больше не смотрела на меня с презрением.
Потом слова иссякли. Тяжело дыша, мы стояли всего в метре друг от друга. Я не отводила взгляд. Мама медленно подняла руку, словно собираясь дать мне пощечину, и замерла. Так мы и стояли, не знаю, как долго, но точно не так долго, как мне сейчас кажется, и на лице у нее снова появились холодность, безжалостность, которых не должно было быть у моей матери. Внезапно, словно кто-то нажал на переключатель, она начала бить себя по голове обеими руками, снова и снова, не останавливаясь. Я стояла в оцепенении, беспомощно наблюдая, как ее ладони с силой ударяют по уложенным волосам, лицо краснело с каждым ударом, и каждый из них причинял мне боль, бóльшую, чем пощечина. Мне стало ужасно стыдно за свою иранскую мать перед одноклассниками-немцами, которые никогда не теряли самообладания. Наконец она опустила руки, ее прическа была испорчена, лоб блестел от пота, по щекам текли крупные слезы. Впервые я заметила, что у корней пробивается седина, – видимо, она неаккуратно покрасилась. Я прошла мимо нее к автобусной остановке, и меньше чем через минуту приехал мой автобус.
С того дня я больше никогда не прислушивалась к матери – по крайней мере, при принятии важных решений, – и, думаю, тяжелее всего ей было от того, что мне ни разу не пришлось сожалеть об этом. Во всяком случае, я никогда не признавалась, даже самой себе, что ошиблась, а она со своими непрошеными советами и пожеланиями оказалась права. Мои последующие успехи были для мамы важны, какими бы незначительными они ни казались, – она хранила отзывы на мои книги, вырезала статьи со списком бестселлеров, куда я попадала, и вешала их на холодильник, покупала новые платья для церемоний награждений… И все же я ощущала (а она, вероятно, уже давно нет), что каждый мой успех был для нее еще одним поражением. Ведь она бросила учебу, когда забеременела. Именно поэтому я жила жизнью, о которой она мечтала в Иране. Отец прав: я никого не слушала, кроме своего маленького эгоистичного «я». Поэтому теперь я и осталась одна.
10
Вечером – прогулка вдоль Рейна в сторону города, чтобы не уходить в темноту. Каждый раз перед мостом Гогенцоллернов меня охватывает раздражение из-за мюзик-холла, такого бездушного, такого импровизированного, построенного буквально из контейнерных блоков, как может быть только в Кёльне. Но, как случается на каждой прогулке, особенно вечерней, стоит пройти тридцать метров и выйти из-под моста, и открывается вид на собор с восточной стороны – от подножия до самых шпилей, и вот меня снова переполняют чувства.
– Смотри! – кричу я фотографу Даниэлю Шварцу, который приехал в гости из Швейцарии. – Смотри!
И когда мы оба поднимаем глаза, мне приходит в голову мысль, что прогресс приносит не только функциональность, но и красоту.
– На что? – спрашивает Даниэль, который видит закат западной цивилизации не менее ясно, чем я.
– На подсветку, – объясняю я.
У собора чудесная подсветка, делающая видимой каждую его деталь, но при этом она не такая навязчивая, как световое шоу у мюзик-холла. Однако собор виден издалека. Раньше вечерами он до рассвета погружался в темноту. Ночью собор прекрасен – и куда более величественен, чем днем. В прошлом об этом даже не подозревали. И этой красотой мы обязаны прогрессу, а не только природе или искусству.
11
Всего за несколько месяцев «до» мама проявила ко мне поразительную нежность. Несколько дней я находилась в глубокой депрессии и запиралась в своей комнате, чтобы избежать вопросов о том, что со мной происходит (я и сама не смогла бы ответить – это и была часть проблемы, если не вся она). На стук в дверь и крики матери я раз за разом отвечала, что хочу, чтобы меня оставили в покое. Она продолжала стучать, сначала осторожно, но с каждым часом все настойчивее. Я надела наушники и потому не услышала, как мать пригрозила, что пойдет в сад за топором. Когда я поняла, что происходит, дверь уже было не спасти, а в моих наушниках продолжала играть музыка. Впервые в жизни я испугалась собственной матери: вся в поту, с топором в руке… Похоже, она и сама испугалась, потому что замерла на пороге, пока я смотрела на топор, который она держала в руке. Наконец она выронила его и обняла меня. Наверное, она и не ожидала, что я дамся и даже выключу проигрыватель. Мать отвела меня наверх, в родительскую спальню, пока я продолжала плакать, это был настоящий нервный срыв, но я позволила ей уложить меня в их с отцом кровать. Мама села рядом, склонившись надо мной, гладила меня по лицу и пела колыбельную, которую не пела много лет, пока мои слезы не высохли. Это был последний раз, когда я в свои четырнадцать или пятнадцать лет заснула в родительской кровати.
12
Как ни странно, именно послеобеденный сон дарит самые драгоценные минуты дня. Ложишься, не зная, получится ли уснуть, закрываешь глаза, следишь за дыханием и каждый раз думаешь, что сегодня сон не придет, но продолжаешь дышать, сосредотачиваясь на том, как воздух наполняет грудь, и чаще всего – пусть и не всегда – через некоторое время действительно проваливаешься в небытие. Конечно, ты не замечаешь, как это происходит, ведь во сне невозможно осознать, что спишь. Понимание приходит лишь спустя несколько минут, когда просыпаешься, и сознание, словно медленно разливающаяся цветная жидкость, возвращается к мысли, что ты лежишь на матрасе, на балконе или просто на траве, окруженная книгами, соседями или знакомым пейзажем. Пытаешься защитить сон от реальности, а если не получается, то хотя бы сохранить его в памяти – но это тоже не всегда удается, дневные сны быстро забываются. Однако к этому забвению примешивается удивление от того, что ты вообще заснула, ведь последняя мысль перед пробуждением была о том, что сегодня сон не придет. Это состояние, когда бодрствование еще не полностью вернулось, а сон не стерт из памяти, полное удивления и удовольствия, можно, если сосредоточиться, продлить на одну-две минуты. Тогда легкая радость, похожая на переход ко сну, но более тонкая, дарит бодрость на весь день или хотя бы на его оставшуюся часть.
13
Теперь, когда я по-новому расставила книги в шкафу, я снова могу дотянуться до Жана Поля, Джойса и Елинек.
Чуть раньше я освободила место на полках и на тележке вывезла книги по социальным наукам из своей книжной кельи. У первой же тротуарной дорожки стопка накренилась и упала, две верхние коробки лопнули, и книги рассыпались по улице. Проходившая мимо женщина помогла мне их поднять – машины уже начали собираться в пробку – и сказала, что читала мои книги. Я пообещала быть осторожнее и заверила, что дальше справлюсь сама. Видимо, она была не настолько впечатлена моими книгами, чтобы настаивать на том, чтобы сопроводить меня. Метров через пятьдесят верхняя коробка снова упала и развалилась на части.
Я сложила книги, в основном по психологии – Фрейда, Юнга, Лакана и так далее, на крыльце ближайшего дома, отвезла тележку с оставшимися коробками к своим воротам и побежала обратно, чтобы вернуть оставшиеся книги домой. К тому времени возле крыльца я увидела двух симпатичных молодых людей – вероятно, студентов, – которые удивлялись тому, что кто-то раздает такие ценные книги. Несмотря на мои умоляющие взгляды, галантности они не проявили, с книгами мне не помогли и были явно разочарованы, когда я, тяжело дыша, заявила о том, что книги принадлежат мне. Вот она я: слишком стара для заигрываний, но недостаточно стара, чтобы кто-нибудь предложил мне донести тяжести.
Пока книги сохраняют материальную форму, писательство остается физическим трудом, подумала я, поднимая коробки с книгами на третий этаж. Конечно, брошюры для Чехелом будут невероятно хороши, ведь их изготовит одно из самых известных издательств страны. Я уже знаю, что придется созваниваться с верстальщицей не раз и не два, трижды мы будем пересылать туда-сюда верстку, каждый раз находя ошибки и в последний момент исправляя текст. Но в итоге каждая точка окажется на своем месте, шрифт будет легко читаем, бумага – качественной, а брошюра – приятной на ощупь. Родственники будут с восхищением проводить пальцами по страницам, радуясь материальному воплощению речи.
Теперь стопки книг по социальным наукам громоздятся в прихожей, а на их месте в моей книжной келье в алфавитном порядке стоят поэты, эссеисты и романисты, которые до того лежали на полу. Как я уже говорила, все авторы на букву J переехали на три полки ниже, так что, возможно, я наконец доберусь до Уве Йонсона, который стоит нечитаным с тех пор, как я купила его «Годовщины» на книжном развале у философского факультета, а это было… так, сейчас посчитаю… двадцать шесть лет назад. Столько лет под одной крышей, не сказав друг другу ни слова, – ни один брак столько не продержится. Но куда большее потрясение я испытала от ряда авторов на букву H. До Гельдерлина и Гейне я еще могу дотянуться, но для Хафиза уже придется вставать на стул, как и для Гомера, Гессе или Зигмунта Гаупта [2]. Более того, для двух верхних полок, где стоят Хедаят, Хемингуэй и Гебель, понадобится лестница – уход мужа явно не пошел им на пользу. До Грасса тоже дотянуться можно только со стула, но это я переживу, главное, что до Гете я дотянусь – пусть даже придется встать на цыпочки.
С буквой А всегда было трудно – книги на нее стояли в левом верхнем углу и потому были в невыгодном положении. После перестановки изменилось лишь то, что третья полка, до которой достаю со стула, теперь увеличилась за счет таких авторов, как Ахматова, Антунеш и Аднан, тогда как для Алексиевич, Арагона или Андрича мне по-прежнему нужна лестница. Впрочем, буква А для литературы не столь важна, как H или S, к тому же Эсхил стоит среди драматургов. Полка с авторами на букву B выиграла от распада моей семьи больше многих остальных, поскольку теперь все книги на ней находятся в пределах досягаемости – не только Беккет, Борхес и Бюхнер, которые теперь стоят на уровне глаз, но и Бодлер, Бергер и Бахман, оказавшиеся на полке ниже.
Однако настоящим победителем в этой перестановке оказалась буква J. Остальные классики на K, H или S всегда находились в пределах досягаемости, потому что занимали несколько полок, что позволяло распределить книги равномерно. Но с Жаном Полем, Джойсом и Елинек дела обстояли иначе: как бы я ни переставляла Гельдерлина и Кафку (I можно вообще забыть в литературе), они оставались несчастными авторами, для которых требуется лестница, – их книги стояли то в самом верхнем, то во втором сверху ряду, и единственное, что я могла сделать с помощью небольших ухищрений, – переместить их пониже за счет писателей на I (Ибсена, Исигуро, Иммермана). Теперь же, мирно соседствуя с таким же непрочитанным собранием сочинений Янна, на меня каждый раз смотрит Уве Йонсон, когда я выхожу из кухни с чаем. Со своей лысиной, трубкой и очками для чтения, он, конечно, не писаный красавец, но все же личность заметная. Остальные мужчины, словно сговорившись, смотрят куда-то мимо меня.
14
Старость легла на Оффенбаха, словно грим: морщины на лице выглядят так, будто их нарисовали слишком толстым карандашом, волосы словно покрыты белой краской, но ум и тело по-прежнему сохраняют удивительную силу и подвижность даже при подъеме по лестнице. Поэтому возраст не может быть объяснением того, почему его слова, некогда казавшиеся мне пророческими, теперь кажутся просто умными, а иногда банальными. Те же самые слова, которые раньше я почти принимала за откровения. Возможно, они износились от многократного повторения? Или имели большее значение, чем я придавала им, когда критика превозносила Оффенбаха до небес? Я почувствовала себя избранной, когда из всех молодых неизвестных авторов он дал свои наставления именно мне. Разочарование, которое я сейчас чувствую, указывает на новый путь. Уходит не только слава, но и сила ее воздействия.
И пока я так думаю, Оффенбах, который теперь публикуется только в небольшом католическом издательстве, снова становится мне дорог. Ведь спустя двадцать – двадцать пять лет мы по-прежнему близки, хотя в нашей связи больше нет ничего особенного, ничего возвышенного – это просто реальность, на которую он указывает даже в своем исчезновении. Оба мы в приподнятом настроении, я так впервые за несколько недель, даже месяцев. Я обещаю, что скоро снова навещу его в доме престарелых.
15
Интересно, испытывали ли писатели, чьи книги меня окружают, то противоречие между любовью и литературой, которое кажется вечным, – борьбу между буржуазным существованием и жизнью художника? Вижу из окна молодого соседа с четвертого этажа. Раз в неделю он вытаскивает свою дочь из детского кресла в машине – ей, наверное, года два, а родители уже в разводе. Сосед прижимает девочку к груди с такой нежностью, словно она спит, и осторожно несет в дом. Через минуту после того, как они заходят, я слышу плач за дверью.
Как бы коротка ни была семейная жизнь моего соседа, наверняка многие его недоразумения были похожи на те, что произошли у соседки, чьи книжные полки видны со двора, – начиная с девятнадцатого века люди сталкиваются с одними и теми же проблемами, неважно, на втором или четвертом этаже они живут, почитайте классику – от Остен до Цвейга. С тех пор как я сама провожу только половину недели со своим сыном, а оставшуюся – одна, я с интересом наблюдаю за соседом. Мы редко разговаривали, перекидывались лишь парой фраз в подъезде, вроде «добрый день» или «с Новым годом», но теперь я чувствую с ним странную связь. Я тоже скучаю по сыну, когда он у другого родителя, и, что неожиданно, скучаю по отцу своего сына, который когда-то был для меня самым близким человеком на свете. И мне становится грустно за маленькую девочку, которую сосед держит на руках.
Однако, быть может, у авторов, чьи книги меня окружают, был конфликт, который усложнял их брак, но которого не было у соседа и уж тем более – у моих знакомых, чьи браки сейчас распадаются один за другим. Этот конфликт связан с искусством как индивидуальным творчеством, что стало особенно заметным в современную эпоху. С возникновением буржуазного общества появился и образ художника как противоположности обывателю, пусть даже внешне он часто ведет самую обычную жизнь – ходит на родительские собрания, оформляет страхование жизни, занимается спортом или даже хобби, несмотря на то что у художника нет выходных, только дни стирки, как любил говорить Оффенбах. Ведь художник свободен лишь в своем творчестве, что и является определением его свободы, а искусство возможно только там, где ничто в жизни не ставится выше. Разве что ребенок может соперничать за внимание, но ни одна возлюбленная – тем более после того, как угаснет романтическое начало. И даже ребенок, вероятно, только потому, что также воспринимается художником как его творение.
Рана возлюбленной, однако, не заживает, а лишь воспаляется, когда она видит, с какой самоотверженностью партнер заботится о ребенке, но игнорирует ее, ее желания, ее друзей и цели. Конфликт становится еще острее, когда художник – это женщина и она принижает мужчину не только как любовника, но и как родителя. Одержимость своим трудом, которая неизбежно сопровождается нарциссизмом (ведь как можно творить день за днем, не считая себя важным?), скорее всего, разрушит брак, если только второй партнер не является музой, поклонником или тоже художником. В противном случае этот конфликт становится неразрешимым, особенно когда речь заходит о так называемой автофикции, как у Брингманна, Курцека или Эрно, которая не нова, но в последнее время снова вошла в моду. Здесь он касается самой сущности литературы. Мои дни, наряду с книгами в книжном шкафу, становятся материалом для нового произведения; только если жизнь и литература переплетаются, создается новое произведение, которое находит свое место между A и Z.
Можно понять, почему мужчина может чувствовать себя использованным и обнаженным, особенно если его любовь зародилась еще до того, как появилось творчество, и он, давая брачную клятву, не имел ни малейшего представления о том, на что соглашается. Возможно, ему позволяют читать рукописи первым, и он должен быть благодарен за это, однако, если его критика мешает, его оставят за бортом, в то время как коллеги, редакторы и издатели получат доступ к ее самым сокровенным мыслям. Появляется еще и чувство ревности – не только к живым людям, но и к мертвым, к книгам в ее окружении. Возможно, его любовь окажется достаточно сильной, чтобы он смог выдержать эту ревность, возможно, чувство долга перед семьей перевесит. Или, возможно, ему не нужно восхищение для уверенности в себе. Но я, видимо, не обладаю качествами, которые смогли бы компенсировать мою поглощенность собой.
16
На Рейне снег обычно задерживается ненадолго – тает примерно через час. А вот в горах, судя по новостям, зима вступила в свои права, и многие приглашенные сообщили, что не смогут приехать на церемонию. Во дворе припаркована машина, которая как будто прибыла с другого континента, – капот и крыша белые, покрыты снегом, так же, как и края стекол. Неужели на трассе снег не слетает? В Вестервальде, откуда, возможно, приехала эта заснеженная машина, каждую зиму из-за снегопада жизнь замирала на день или два, и даже потом на тротуарах появлялись лишь узкие расчищенные полоски. Как же радовалась одна маленькая девочка, когда взрослая жизнь останавливалась! Даже на низкой скорости машины все равно заносило, и они врезались друг в друга. Оранжевые аварийные мигалки включались напрасно, и как смешно было, когда пешеходы теряли равновесие и падали! Теперь, став взрослой, эта девочка сожалеет, что многие не смогут приехать на церемонию. Но, быть может, это горы, в которых мама прожила пятьдесят лет, послали реке снежный привет. Пусть даже сама она никогда не называла Вестервальд своим домом.
17
Образ, который отложится у всех в памяти, – это не тщеславная брошюра, к счастью оставшаяся без внимания, а внуки, которые один за другим выходят к трибуне и делятся своими воспоминаниями: бабушка всегда долго обнимала меня при встрече, пока не понимала, что со мной все в порядке. А я однажды ворвался на кухню, где стояла дымящаяся кастрюля, и закричал: «Бабушка, у тебя молоко убежало! Молоко убежало!» – а она мечтательно показала мне на черно-бело-коричневые пятна и попросила принести альбом для рисования; отпечаток дна кастрюли теперь висит в мастерской внука, который стал художником. А мне она по секрету сказала, что я ее любимчик, и мне потребовалось двенадцать лет, чтобы понять, что она говорила так каждому из нас. А мой сын слушал ее истории, и это его самое раннее воспоминание: рассказы, которые, в свою очередь, были чужими воспоминаниями, уходящими корнями к началу времен.
Внуки видят свою бабушку такой, какой она была для них, а дети создадут образ, который будет либо слишком сентиментальным, либо искаженным из-за конфликта, через который формировалась их личность. Ведь родители и дети неизбежно причиняют друг другу боль, совершают ошибки. Внуки же способны воспринимать бабушку и дедушку без этого груза, без обид и ссор, без напряженного взросления. Они не видели, как их бабушка развивалась, совершала ошибки или терпела неудачи, и могут оценить ее такой, какой она стала в конце жизни.
Создается впечатление, что внуки говорят о бабушке, как о святой, в то время как ты, ее дочь, стремишься к большей объективности. Но кто сказал, что они ошибаются? Кажется, будто сама смерть срежиссировала эту картину: все внуки собрались на сцене, и вот в первом ряду внезапно встает старик, с которым покойная прожила шестьдесят лет, с которым спорила шестьдесят лет, – и связывала их не романтическая любовь вовсе, разве что поначалу, в первый год, – он с трудом поднимается по ступенькам, опираясь на трость, становится в центр и с пылом влюбленного юноши декламирует стихотворение на персидском языке. Этого образа – образа почти девяностолетнего старика, который стоит среди внуков и правнуков, и тоскует по своей любви, и с каждым длинным, почти напевным концом строки поднимает свободную руку вверх, – более чем достаточно, и он не требует участия или присутствия нас, детей, чтобы быть значимым. Вы осознаете это лишь тогда, когда все складывается в финальную сцену, как в драме, или когда случайности жизни выстраиваются в роман. Все мы – лишь звенья в непрерывной цепи, необходимые для того, чтобы семья могла существовать дальше.
18
«Каждый, кто произносит речь на похоронах, сам рано или поздно окажется в могиле» [3], – приходит мне в голову, когда я, стоя на стремянке, читаю слова Карла Крауса, сказанные 11 января 1919 года на Центральном кладбище Вены. С высоты красный ковер с цветочными украшениями, расстеленный на деревянном полу, похож на холм на маминой могиле, возвышающийся над тщательно выровненной землей. К счастью, сестра догадалась предупредить садовника о том, что на Чехелом семья снова соберется у могилы, иначе нам бы пришлось молиться перед увядшими венками. Интересно, могло ли это осознание – что однажды мы сами окажемся здесь, в траурном зале, в гробу или урне – принести нам какое-то утешение? Или эта мысль вызвала бы только ужас?
В завершение траурного месяца я хочу перечитать тех авторов, чьи книги пылятся на полке, как Уве Йонсон и Ганс Хенни Янн. Уже под буквой А их оказалось больше, чем я думала: среди них довольно известные – Давид Албахари, Пол Остер, Гийом Аполлинер, которых прежде я едва удостаивала взгляда. Даже в собрании сочинений Ахима фон Арнима я нашла только один рассказ, «Изабелла из Египта», который читала. Интересно, давно ли здесь стоит книга «Беседы о смерти»? Обычно я считаю такие книги лишенными смысла: либо это беседа, либо книга, но на высоте двух метров над ковром, напоминающем о маминой могиле, я все же открываю ее.
«Стремитесь ли вы к смерти?» – спрашивают Ильзу Айхингер. «Да, – отвечает она без колебаний, – мое единственное сожаление в том, что нельзя испытать смерть как состояние. Она похожа на крепкий сон, который, правда, приходит ко мне редко. Я бы хотела осознать, что я мертва, меня угнетает мысль о том, что я не смогу насладиться триумфом отсутствия. Конечно, здесь есть противоречие, потому что, когда я буду мертва, я надеюсь, что полностью исчезну, как всегда хотела» [4].
Держа перед собой книги, медленно, ступенька за ступенькой, спускаюсь по стремянке и складываю на письменный стол стопку нечитаных авторов на букву А. Башня получилась яркая, высотой почти до моего предплечья. Впервые обращаю внимание на роман Фади Аззама «Сармад», который мне подарил Рафик Шами. Так всегда бывает с подарками, и с моими, наверное, тоже – их не открывают годами. Но для Рафика Шами это, вероятно, еще печальнее, ведь никто не интересуется его родной страной, к которой он, как и любой эмигрант, привязан особенно крепко. Сирия никого не лишает сна, несмотря на то что война там идет уже дольше, чем обе мировые войны, вместе взятые. Африн и Восточная Гута – вот города, которые с недавних пор на слуху, но никто не возмущается резней мирных жителей и иностранным вмешательством. Ни демонстраций, ни пикетов, ни петиций, ни дебатов в Бундестаге или Европарламенте. Только за последние дни тридцать тысяч человек бежали из окрестностей Алеппо перед наступающей армией. А в газете написано, что за прошедшие сорок восемь часов погибло наибольшее количество людей за последние пять лет.
На клапане – фотография Аззама: задумчивый мужчина лет сорока сразу располагает к себе, да, его можно назвать привлекательным. Длинные каштановые волосы, густая борода, одной рукой он подпирает подбородок. Аззам снят на фоне затянутого облаками неба, которое могло быть как над Сирией, так и над Европой. О его творчестве почти ничего не написано, а в биографии указано только то, что он родился в деревне Таара, недалеко от города Сувейда, где не было электричества. «Я учился читать при свечах, поэтому для меня буквы всегда светятся», – говорится в биографии. В выходных данных написано, что фото сделал сам Рафик Шами, – должно быть, автор ему очень дорог. Что ж, Аззам еще жив, возможно, даже знаменит у себя на родине, поэтому я кладу книгу обратно на стол и беру Петера Альтенберга, чью «Книгу книг» Академия бесплатно разослала всем своим членам – ограниченное издание, которое нигде не купить. «Благородный человек! Благородный человек! Горько веку, что тебя отверг!» – завершает Карл Краус свою траурную речь, завершает третий и последний том: «Горе потомкам, которые тебя не признают!»
«Он хотел защитить людей, особенно наивных, невинных девушек от разрушения их реальности», – пишет Вильгельм Генацино в предисловии. Сам Генацино в своих книгах тоже выступает своего рода фланером, рефлексирующим по поводу городской повседневности, тон его более меланхолично-дружелюбный, без того едкого сарказма, как будто он сохранил мечту, о которой тосковал Альтенберг: мечту о том, чего нет и чего не будет. Альтенберг всего лишь один раз в жизни надолго покинул Вену, когда в двадцать три года влюбился в девушку на десять лет младше. Он проводил ночи в слезах, обручился с ней и стал книготорговцем в Штутгарте, чтобы быстро заработать деньги и обеспечить ее в будущем. Но из этого ничего не вышло. Нет, не вышло: из-за нервного расстройства Альтенберга признали нетрудоспособным, он пристрастился к наркотикам, и его записи превратились в обрывки мыслей. «В моих книгах есть несколько красивых фраз, но их надо суметь выудить из хаоса мыслей» [5], – писал он.
Оффенбах рассказывал, что однажды на книжной ярмарке перед ним стоял дрожащий худой старик – дряхлый и, видимо, слегка растерянный, который поприветствовал его с безмерной печалью. Оффенбаху понадобилось некоторое время, чтобы узнать в этом старике Генацино. «Позже судьба обрушилась на нас, словно неожиданная орда гуннов, и повсюду нанесла нам тяжелые поражения» – так звучит одна из красивых фраз Альтенберга. Должно быть, их не так уж мало, если в одном только предисловии Генацино столько цитат.
19
Мы идем вдоль Рейна, снова обсуждая воспоминания внуков о бабушке. Впервые за долгое время небо ясное, и солнце одновременно светит со спины и отражается в реке, которая разлилась так сильно, что напоминает озеро.
– Представь себе, – говорю я сыну, пытаясь его утешить, – что бабушка умерла бы до твоего рождения. Разве было бы лучше, если бы ее не стало тогда, а не сейчас?
– Такое невозможно представить, – возражает сын, – нельзя представить, что человек, которого ты знаешь, никогда не существовал.
– Но ведь часто бывает, что внуки не успевают познакомиться со своими бабушками и дедушками.
– И каково это? – спрашивает он.
– Похоже на слепое пятно, потому что собственная память, как я знаю по писательскому опыту, охватывает два поколения – назад и вперед. От бабушек и дедушек, которые были детьми, до внуков, которые станут старыми. Их жизненные пути еще можно представить, они видимы, они как бы обрамляют твою собственную жизнь. Все, что было до них или будет после, превращается в исторический или фантастический роман, не имеющий связи с тобой. Моя родившаяся в середине девятнадцатого века прабабушка, которую я видела только на черно-белой фотографии – первая слева в светлой чадре и со сросшимися бровями, – для меня чужой человек, существующий лишь в рассказах. Как и моя бабушка для тебя. Человек может обнять только двух людей – слева и справа от себя, заглянуть на два поколения в прошлое и будущее, вот и весь его мир. И если бы бабушка умерла до твоего рождения, то место слева было бы пустым.
Мы встречаем знакомого, который слышал о нашем горе. Выразить соболезнование ему, видимо, трудно; возможно, он считает, что обычные слова звучат банально, поэтому просто смотрит на нас с печалью. Мой сын сразу отводит взгляд.
– Солнце, – говорит знакомый, указывая на запад, – солнце заходит, а завтра снова взойдет. А вот человек… он исчезает и…
– Мы верим, – отвечаю я твердо, – что солнце взойдет и для умерших, просто в другом и даже лучшем мире.
– Красивая мысль, – соглашается знакомый, хотя мои слова предназначались больше для сына, которого, похоже, смутила метафора с заходящим солнцем. – Я тоже хочу в это верить.
Знакомый все еще стоит рядом, не знаю почему, а заходящее солнце светит нам троим в лицо.
Позже сын останавливается, глядя на ветки и мусор, которые плывут по Рейну, словно плоты, и на торчащие из воды деревья, и на игру света и облаков на поверхности реки, и на стайку уток недалеко от берега, которым не холодно зимой и не жарко летом – по крайней мере, так сказал его двоюродный брат.
20
Каждый бегун радуется, как ребенок, когда ему удается ускользнуть от полиции, которая застала его при переходе железнодорожных путей. А как же радуется бегунья! Полицейские слишком важничают, чтобы погнаться за женщиной, это я уже знаю, и предвижу, что они объедут парк и попытаются перехватить меня на следующем перекрестке, как в детективном фильме. Наверняка для них это своего рода развлечение.
Но я тоже не промах и, увидев открытую калитку, скрываюсь в чужом саду, пробегаю между грядками и выхожу на параллельную улицу. Издалека вижу поджидающую меня полицейскую машину и надеюсь, что полицейские тоже видят, как я снова скрываюсь в парке. Даже если они выйдут из машины, им меня не догнать, а их крики я, увы, не услышу. На всякий случай быстро отвожу взгляд.
21
Я уже готова согласиться с Петером Альтенбергом: его красивые фразы нужно извлекать из хаоса его любовных историй, как открываю второй том, где он жалуется на отсутствие внимания со стороны окружающих к его нервной системе. Скорее уж жаловаться должны были женщины, которых он осаждал. Какую чушь только не выдумывают мужчины, считая это галантностью: «Любовь мужчины – это мир! Мир женщины – это любовь!» Но вот Альтенберг впадает в ярость на женщин – и что происходит? На 380-й странице он впервые кажется мне интересным: «Тысячи грубостей и бестактностей окружающих нас людей разрушают нашу накопленную жизненную силу. Кроме того, тревоги, заботы, ревность, алкоголь, плохая еда, грубые официанты, грубые парикмахеры, грубые друзья – все это ежедневно, ежечасно поедает наши жизненные силы, причем делает это каким-то странным, изнуряющим и парализующим образом, подготавливая нас к диабету! Женщины особенно искусны в разрушении нашей жизненной силы, вызывая ревность – эту раковую бациллу души! Вдруг становишься зеленым и желтым, и жизненная энергия исчезает. Каждый человек – на самом деле трусливый коварный убийца всякого, кого он тревожит без самой крайней необходимости!»
Только за утро мне пришлось выслушать обвинения моего будущего бывшего мужа в том, что я не только плохая жена, но и плохая мать, и объяснения моей подруги – да, моей лучшей подруги, – почему она его понимает. В то же время по стационарному телефону министр пыталась убедить меня выступить с речью на – внимание, держитесь! – ежегодной присяге бундесвера, и сама мысль об этом уже отнимает жизненные силы. Одновременно отец трезвонит мне на мобильный. «Папа, я сейчас перезвоню, папа, я не могу сейчас говорить! Или что-то случилось, папа?» – И тут оказывается, что ему просто нужно, чтобы я отнесла рецепт в аптеку.
«Сохранение жизненных сил моего организма должно быть стремлением каждой по-настоящему дружеской души, – утверждает Петер Альтенберг. – Будь Франц Шуберт моим близким другом, я бы вдохновил его еще на две тысячи композиций. Я убедил бы его позаботиться о своих жизненных силах, чтобы сохранить себя для нуждающегося человечества. Я выступаю против божественного легкомыслия, но за тяжеловесную, как сама жизнь, осмотрительность».
Если так, то я должна быть благодарна утренним событиям: мир был избавлен как минимум от двух страниц моего творчества – настолько много энергии забрали у меня муж, подруга, отец и министр. Последняя еще и осторожно заметила, что поймет, если я откажусь: «Я тоже долго ухаживала за отцом и знаю по собственному опыту, что есть вещи важнее любой должности и любой речи». – «Мой отец не нуждается в уходе! – резко ответила я. – Он просто еще не до конца смирился с одиночеством».
22
Сегодняшний день запомнился мне стариком, который стоял на набережной Конрада Аденауэра, ожидая зеленый сигнал светофора. Лицо старика покрывали глубокие морщины, ноги были тонкими, а тело – согнутым, как у святых на старинных картинах, только одет старик был в шотландскую военную форму с беретом. Белые бакенбарды, ордена – видимо, времен Второй мировой войны. Карнавальный костюм? Не похоже. Возможно, это была дань самому себе, своей истории.
Живя в большом городе, каждый день встречаешь людей, у которых больше историй, чем у тебя самого. Среди них – настоящие безумцы, как в те времена, когда еще не было психиатрических больниц, бездомные или личности даже поэксцентричнее меня. Плюс иностранцы, которые собираются в группки перед интернет-кафе, вероятно, сбежавшие из своих стран из-за войн и бедствий, – так я это себе представляю. И конечно, наркоманы и их дилеры, каждый из которых тоже заслуживает отдельной книги, пусть и не такой захватывающей, как страсти Христовы. Но этот старик… какая история скрывается за человеком, который холодным зимним утром стоит на светофоре в клетчатой юбке, с орденами на груди?
Что еще? Сегодня я занималась дживамукти-йогой, потому что одной силой духа справляться с болью в спине бывает сложно.
23
Зайдя на Ютуб, поражаюсь существованию псевдорелигиозной параллельной вселенной и понимаю, что за пятьдесят лет жизни в Германии я никогда с ней не сталкивалась: строевой шаг, флаги, маршевые песни, штандарты, воздушные, морские и наземные войска, команды «На плечо!», «Ружье на изготовку!», «Опустить ружье!». При одновременном ударе тысяч штурмовых винтовок раздается звук, похожий на выстрел из пушки. «Равнение направо!», «Прямо!», «Смирно!» – хотя солдаты и так уже стоят смирно, и самая курьезная: «Вольно!» – после которой они идут четким строевым шагом. Теперь и женщины-солдаты выкрикивают клятву, разрывая фразы на куски, что тоже считается прогрессом. Слова сами по себе вполне безобидные, но громкость все равно пугает. Впрочем, миролюбивая армия была бы противоречием сама по себе. Просто мы уже отвыкли от таких зрелищ, ведь о существовании бундесвера сегодня напоминают разве что молодые солдаты, которые на выходные возвращаются домой. Их камуфляж в городах сегодня выделяется даже больше, чем неоновые спортивные костюмы. Если раньше, когда в армии были только парни, солдаты пили и устраивали шум, то теперь здороваются в поездах и всегда готовы помочь – ну точно игроки национальной сборной. Но как бы они ни старались на парадах, я бы не хотела, чтобы эти люди защищали меня от толпы талибов [6] в адидасовских шлепанцах.
Полный контраст с этим маршем представляет собой миниатюрная министр, на ней слишком облегающий жакет, который не сочетается с добродушной материнской улыбкой, с которой она обращается к своим солдатам, произнося образцово-демократическую речь, подтвержденную в прошлом году еврейским оратором. А в этом году вдоль ровных рядов должна пройти мусульманка, которая сомневается, во что верить – в ислам, Германию или в войну. Главное, чтобы ее критика продолжала укреплять эту «идеальную демократию», когда в конце парада она пожмет руку гендерно сбалансированной делегации солдат и обменяется с ними парой дежурных фраз – самой бессмысленный разговор в мире. Что можно сказать, когда на тебя смотрят шесть, восемь, двадцать тысяч глаз? Спросить «Откуда вы?» или «Что привело вас в бундесвер?», а потом пожелать удачи?
В прошлом году гостевая трибуна стояла под палящим солнцем – неужели никто не смотрел прогноз погоды? – поэтому на видео видно, как большинство зрителей прячутся за программками. Почетные гости в темных костюмах и военные атташе в экзотических формах обливаются потом, а чуть дальше, даже в первом ряду, сидят берлинцы в шортах и майках, как на пляже во время отпуска. В некотором смысле для них это действительно отпуск – они прикасаются к войне, которая кажется такой далекой, хотя до нее всего два часа на самолете. Тщательно избегая повелительного наклонения, дорогим согражданам предлагают исполнить национальный гимн.
24
Не только природа или искусство, не только любовь, наслаждение, молитва, танец, аскеза, адреналин и сексуальность – даже такие обыденные вещи, как моя дживамукти-йога, которую Мадонна рекламирует по всему миру, способна принести экстаз, пусть и крошечный. Но для этого нужно очень точно уловить момент, когда, например, расслабляется напряженная мышца и дыхание свободно проходит от спины до таза. На протяжении нескольких часов – даже дней – дыхание казалось застрявшим в одной из мышц вокруг грудного позвонка, как будто в дыхательных путях появилась преграда, которой нет физически, но есть в ощущении тела. И вот преграда исчезает, а ты даже не понимаешь, чтó к этому привело, и радостно вскрикиваешь, пусть даже так тихо, что никто вокруг не замечает.
25
Раньше мы свистели, чтобы помешать солдатам приносить присягу на оружии. Даже если сейчас считается правильным, несмотря на всю критику, поддерживать государство, которое, как ни крути, содержит армию, может ли быть задачей интеллектуалов – его представлять? С другой стороны, если мне предоставляется возможность рассказать, на кого направлено это оружие, не окажусь ли я виновной, если не дам этим восемнадцати-девятнадцатилетним новобранцам ничего для понимания нынешних и, что более важно, будущих войн? Нереалистично ожидать, что следующие семьдесят лет в Центральной Европе продлится мир. Или даже семь, если уж на то пошло. Особенно учитывая, что фронт уже проходит через Украину. Какое послание можно оставить на случай, если у Германии снова появятся враги, с которыми придется сражаться не на жизнь, а на смерть? Признание этой новой реальности, когда оно стало правильным (когда?), повредило только мне самой.
Но разве год не должен ограничиваться перемещениями в пределах дома, от спальни до книжной кельи? Покупками, готовкой, ребенком, вечерами кино или концертами, иногда отпуском, если удастся, но не реальностью, полной бойни и геноцида. Так много книг, которые могли бы ожить, обещания, которые могут сбыться или не сбыться. Листая белоснежную книгу, толстую, как кирпич, которая тоже стояла на полке непрочитанной, натыкаюсь на замечание Пауля Низона: «Писателю следует переживать как можно меньше – достаточно одного комочка событий, чувства или просто воображения» [7]. Низон на букву N уже готов к прочтению.
В мыслях я перебираю те разрушительные для духа солдат идеи, которые единственно могли бы оправдать мое участие. Которые подорвут боевой дух, не внушат храбрость, а нагонят страх. Идеи о любви к врагу. О провальной политике, за которую солдатам придется расплачиваться своими жизнями. О нашивке, которую им предстоит носить в Афганистане: «Winning hearts and minds» [8] – и на дари тоже, пусть даже они, вероятно, никогда не встретят ни одного афганца лично.
Кажется, что я придумала неожиданное завершение, которое одновременно поддерживает бундесвер, но все же оставляет место для сомнений, но потом я решаю отказаться от этой идеи. Не из-за безответственности и уж тем более не из-за моего писательства, которое снова должно свести мировые события к второстепенным вопросам, какими они, впрочем, и являются для каждого из нас, если не приходится сталкиваться с голодом или войной. Не из-за насмешек на работе, неодобрения друзей или возможного шквала критики. Никто бы не понял, что я иду на жертву. Напротив, все подумали бы, что я это делаю с удовольствием и гордостью. Между тем публичная речь – это служение, и успешной она может быть только тогда, когда ты отступаешь на задний план, исчезаешь за тем, что говоришь от имени всех. И все же в этом – и именно в этом заключается сила литературы – через ритм и паузы дыхания выражаются переживания отдельного человека, который в данном случае – ты.
Именно у Петера Альтенберга, который пишет исключительно о себе, я нашла подтверждение этой мысли. На вопрос, как правильно расставить акценты в названии одной из его книг: «Как это вижу я» или «Как это вижу я», он ответил, что второй вариант – единственно верный, «поскольку индивидуальность, если она имеет право на существование даже в какой-то мере, должна быть первым шагом, предвестником развития всего человеческого». Вот настоящий вызов, который, однако, нельзя использовать как повод для отказа: субъективность проявляется именно там, где говоришь от лица других. Нет, вопрос в другом: какова твоя конкретная задача? Что ты должна делать, а чего не должна? Как гражданам, интеллектуалам не обязательно быть пацифистами. Они могут писать статьи, в которых призывают к военным действиям, например в случае угрозы геноцида. Во время войны или революции они могут взять в руки оружие и при этом оставаться интеллектуалами. Но они ни в коем случае, каким бы справедливым ни казалось дело, не могут быть теми, кто благословляет оружие (а присяга – это светская форма благословения), ибо это противоречит их роли.
26
Во втором томе я узнаю и о тринадцатилетней девочке, за которой Петер Альтенберг следовал, словно влюбленный суфий. Она была дочерью сапожника, одной из одиннадцати детей. Старшие уже работали, а младшие находились под ее присмотром. Сколько ему лет, когда он это пишет? Судя по предыдущим записям, у него уже лысина и он беспокойно ест такое же малиново-шоколадное мороженое, которым его каждый вечер угощали родители – слишком добрые, чрезмерно снисходительные, всепрощающие, но как воспитатели – совершенно несостоявшиеся родители, которые, однако, оставили ему настолько невероятно прекрасные воспоминания. Это было и проклятием, и благословением! «Можно оглядываться назад на времена, которые казались райскими. – —. Не каждый, кто видит перед собой мрак, способен благодарно и с любовью вспоминать светлые дни – — —».
В каком возрасте он мечтал о тринадцатилетней девочке? Сколько лет нужно ждать, чтобы написать о том, что произошло, и о том, что не отпускает? Редко он осмеливался приблизиться к своей юной возлюбленной, и даже тогда взгляд его, полный самой дружеской нежности, скользил мимо нее, как масло по воде. Однажды к нему на скамейку подсела семилетняя сестра Анны, Жозефа, и он дал ей два бисквита. «Дайте мне еще два бисквита, я отнесу их Аннель. Она не может прийти к вам, потому что уже слишком большая. Что она может с этим поделать?!» Альтенберг дал ей двадцать бисквитов, и на этом все, вот она – великая любовь Петера Альтенберга, который писал о женщинах как о предметах наслаждения: «Одетую женщину я ненавижу за сложность, а раздетую – за примитивность! Если бы только нашлась одетая женщина, которую не хотелось бы раздеть, и раздетая, которую не хотелось бы одеть! Вот было бы счастье!»
Петер Альтенберг всегда стремился к удовольствиям, его сексизм был безутешен, а педофилия отвратительна. Однако его декаданс не был бесцельным. Он указывал на отчуждение, которое Альтенберг, вполне в духе марксизма, понимал как основное переживание современности: есть, когда не голоден, двигаться, когда нуждаешься в покое, совокупляться, когда нет любви. Альтенберг развивал свое эстетство еще дальше: именно эгоизм, на котором зиждется капитализм, приведет к освобождению. Например, жестокое обращение с лошадьми прекратится, когда люди станут настолько раздражительными и декадентскими, что не смогут сдержать себя и застрелят кучера.
Прекращение несправедливости и насилия, потому что само их зрелище нас изводит, реалистичнее, чем вечные призывы к альтруизму. Эффект, которого я добиваюсь своими книгами, в конечном счете основывается на понимании того, что если игнорировать бедствия, например в Афганистане, то рано или поздно они придут к нашему порогу. Невозможность терпеть жестокое обращение с лошадьми – это поступок человека будущего с ослабленными нервами! Раньше у людей было достаточно сил, чтобы не обращать внимания на такие чужие дела.
Быть может, мы продвинулись со времен Альтенберга: говорим о правах человека, получаем социальную поддержку. Но если посмотреть на масштабы бедствия, которое мы продолжаем игнорировать, начиная с войн и лагерей вдоль границ Европы, Сирии, Ирака, Ливии и Донбасса и ежедневно тонущих в Средиземном море, то наши сердца, похоже, стали еще более черствыми. На свой лад Петер Альтенберг тоже был хроникером, репортером, свидетелем.
27
Неужели сегодня – первый день, когда не произошло ничего, что заслуживало бы упоминания? Трудно представить – мне кажется, что каждый день в жизни каждого человека происходит что-то важное, причем важное не только для него самого.
Я писала статью, а это значит, что ничего особенно не происходило, хотя писательство само по себе – тоже своего рода жизнь, которую стоило бы описывать параллельно. По крайней мере, сегодня я испытываю чувство удовлетворения от того, что смогла найти последнюю фразу, пусть даже все предыдущие были корявыми. Когда последний абзац готов, можно вернуться к началу, и вдруг все, что казалось разрозненным или неуклюжим, встает на свои места. Возможно, с жизнью было бы так же, знай мы ее конец.
Потом меня ждали дневные обязанности, состоящие из общения с отцом и сыном, – самые приятные обязанности, какие только могут быть. Если кто и имеет право отвлечь от работы, так это дети и родители, но супруг – никогда. А ведь именно любовь – то, о чем всегда есть что сказать.
Действительно ли ничего не произошло?
Сегодня я говорила с отцом так, как будто я его учительница, почти как старшая сестра или тетя, а может быть, даже как мать. Хорошо, что он, он, никогда в жизни никого не слушавший, теперь готов принять мой совет. Хорошо, но больно осознавать его состояние. Что же это за жизнь, когда отец, иранский отец, принимает указания от дочери? Я велела ему снять траур: сорок дней прошло. В этом и заключается смысл траурного срока, который существует уже пять или десять тысяч лет: чтобы отметить не только смерть, но и возвращение к обычной жизни, к радостям, к краскам. Прошлого не вернуть, случившегося не исправить, выбросите это из головы, папа. Повезет, если вы сможете справиться с бессонницей, я сейчас же позвоню врачу, он выпишет какое-нибудь снотворное. Может, и для коленей что-нибудь найдется, чтобы вы не чувствовали себя так, словно они превратились в желе. Я спрошу ортопеда, поможет ли бандаж. Но молодым вы уже не станете, и сейчас вам, папа, нужно решить, хотите ли вы просто ждать смерти или воспользуетесь тем небольшим временем, которое вам осталось, и возьмете от жизни все, что она может предложить. Хотите стать лежачим и мечтать о том, чтобы самому сходить в туалет? Вспомните, какое удовольствие мама испытывала от одного вида своих внуков. А вы еще можете гулять вдоль Рейна, можете путешествовать, можете ходить по магазинам и самостоятельно принимать решения. Вам сейчас восемьдесят восемь, папа, вы думаете, что станет лучше? Думаете, вы первый, кто понял, что старость – это банк, которому вы выплачиваете долги за каждую крупицу счастья, за каждый здоровый день, и притом с грабительскими процентами? Старость – это медленная потеря всего, что казалось само собой разумеющимся: сначала родителей, потом друзей, братьев и сестер, жены или мужа… Один за другим начинают отказывать органы, радиус перемещений уменьшается километр за километром, пока даже выход в город, выход из дома и в конце концов поход в туалет не становятся слишком трудными. Радуйтесь тому, что у вас ясные ум и зрение. Возьмите наконец ходунки – красивые женщины все равно на вас больше не оглядываются – и радуйтесь тому, что вас кто-то навещает, что у вас есть семья, внуки, которые вас любят и заботятся о вас. Радуйтесь каждому дню, который проводите с братом, слетайте с ним в Америку. Купите себе билеты в чертов бизнес-класс. Ведь старость дает одно преимущество, папа: по-настоящему начинаешь ценить то, что у тебя есть, только тогда, когда каждой клеточкой тела ощущаешь конечность жизни. Молодым все дается легко, но что толку, если они этого не ценят? Тот, кто думает, что будет жить вечно, не может быть счастлив по-настоящему. Если кто-то способен быть счастливым, так это вы.
28
Нужно было поторопиться, чтобы успеть на поезд, поэтому среди непрочитанных авторов на букву B выбрала того, чья обложка понравилась мне больше всего.
* * *
К вечеру я прибыла в небольшой немецкий городок. Даже новые неказистые дома стоят здесь уже лет сорок-пятьдесят и выглядят так, будто не было никакой войны – только экономическое чудо: опрятные фасады, чистые урны, аккуратные спортивные велосипедисты, яркие вывески. Наверняка в этом неприметном и ничем не выделяющемся городке есть приличная библиотека, парки, общественные бассейны, музей, а может, даже театр или ресторан с мишленовской звездой. В странах Востока, в Африке, в Южной Азии, возможно, и в Китае – да везде в мире можно гулять по старым городам, но почти ничто в них не является по-настоящему старым. Может, найдешь старый центр или отдельное историческое здание, возможно, городскую стену, но все остальное построено за последние десять, двадцать, в лучшем случае тридцать лет, ведь бетонные блоки, из которых часто даже не удосуживаются сделать красивый фасад, дольше не выдерживают. А мы живем в доме девятнадцатого века, и в Европе это не считается чем-то необычным. В Иране такой дом стал бы музеем, хотя там города не подвергались разрушениям уже девятьсот лет. И часто, особенно на Востоке, я спрашиваю себя: куда делось прошлое? В этом вопросе, возможно, и кроется разгадка настоящего.
* * *
На встрече с читателями отклоняешься от плана и начинаешь рассказывать о Чечне, пока не доходишь до недавних войн. Слушатели широко раскрывают глаза, и ты чувствуешь, как тебя переполняет вдохновение. На самом деле это вдохновение исходит от тебя самой. В середине фразы тебе приходит в голову, что, сколько бы понимания ты ни пробудила, в Чечне от этого ничего не изменится.
* * *
Позже, в ресторане, у тебя нашлись бы анекдоты, чтобы поддержать разговор, который, кажется, не закончится никогда – пусть даже не сказано ничего важного, ничего, что имело бы значение для кого-то из сидящих за столом. У тебя есть два, а может, и три подходящих замечания, которые по остроумию и оригинальности не уступают замечаниям остальных присутствующих, – ты уже опробовала их в других беседах, остальные присутствующие тоже уже опробовали мысли, которые озвучили за этим столом, никто не говорит ничего, что имело бы значение. Но где вы на самом деле, пока обмениваетесь словами, анекдотами, политическими оценками? Где ваши сердца?
Уверена, что спроси ты об этом вслух, то подняла бы главные темы – любовь, смерть и предательство.
* * *
«Сколько раз я рассказывал Эстер свои сны», – пишет рассказчик в произведении Аттилы Бартиша «Спокойствие» [9]. Ее любопытство почти маниакально, словно это какой-то ритуал: она укладывается рядом, и если бы кто-то их увидел, то подумал бы, что это воплощение идиллии, но на самом деле ничего идиллического здесь нет. Это скорее похоже на то, как мужчина рассказывает новой возлюбленной о своих прошлых женщинах, обычно по ее настойчивой просьбе. Она жаждет знать все, и мужчина попадает в ловушку: если он не может вспомнить какую-то деталь, он выдумывает ее на ходу. Вдруг он замечает, как она закусила губу до крови и раздавила сигарету в пепельнице. Ее не волнуют его бывшие женщины, только его сны, ведь она сама никогда не может вспомнить свои. Ей кажется, что она лишена половины жизни, и, возможно, это действительно так. «Мы скорбим по своему собственному „я“, что искалечено жизненной суетой, – пишет Петер Альтенберг. – И скорбь эта зовется чувством стыда».
29
В отличие от моего участия в присяге, за которое меня разорвали бы на части доброжелатели, присутствие министра на моей встрече с читателями казалось выгодным для нас обеих: она выигрывает от моей репутации честного человека, а моя книга – от ее известности. Но стоит ей начать говорить, как демонстранты разворачивают транспаранты с балконов и обвиняют ее в убийствах. Считают ли они меня соучастницей? Судя по голосам, они очень молоды и, возможно, потому так взволнованы. Мне кажется, что они дрожат не столько от гнева, сколько от волнения.
Увы, подготовились они плохо. Министр легко опровергает обвинение в том, что, раз она продала танки, то несет ответственность за войну, указав, что танки были поставлены предыдущим правительством десять лет назад, а нынешнее правительство прекратило поставки оружия в обсуждаемую страну. Она подробно комментирует объемы экспорта оружия; правда это или нет, сразу и не скажешь, но в итоге ей удается перевернуть ситуацию и выставить демонстрантов обычными крикунами, у которых нет аргументов.
Я сижу рядом с министром, которой чуть не пообещала принять участие в присяге, и думаю: тридцать лет назад я бы стояла наверху, среди демонстрантов, и тоже кричала бы. Я не показываю этого (а почему, собственно?), но я рада, что демонстранты набрались смелости и выразили свое несогласие, в том числе и со мной, ведь я не возражаю министру, умной, начитанной женщине, не убийце. Она, безусловно, стремится к власти и заботится о своем имидже, но она отказалась от своей предпоследней должности, чтобы ухаживать за отцом, чему я нашла подтверждение в интернете. Сколько из тех, кто сегодня в зале, сделали бы то же самое? Но дело не в том, хорошая она или нет. Как министр, она цель протеста, и я вместе с ней, ведь сижу рядом.
Меня трогает, что после того, как шум утих, демонстранты внимательно слушают, когда я рассказываю о своем путешествии, о прошедших войнах и тех, что идут сейчас, о немецкой вине и страхах, которые охватывали меня на фронтах. Означает ли «никогда больше» [10] отказ от войны или нежелание больше закрывать глаза на происходящее?
Позже я узнаю, что молодые люди покинули зал сразу после своей акции, так и не дослушав мое выступление. Я обращалась к ним напрямую, но они к тому времени уже ушли. Оказывается, у них были с собой краски и яйца, которые, к счастью, они не использовали. Видимо, они осознали, что после полученных ответов насилие было бы лишним, тем более что правдивые это ответы или нет – они сказать не могли. Как бы то ни было, я рада, что мой новенький пиджак не пострадал.
* * *
Просыпаюсь резко, как от испуга, – кажется, это первый раз, когда мне приснилась покойная мать. Мы были на озере: мой сын, сестры, зятья, племянники и племянницы купались, и я тоже плескалась где-то вдалеке, но моего мужа нигде не было. На берегу стояли другие родственники, это походило на семейную прогулку или какое-то мероприятие, посвященное памяти матери, которая не присутствовала, но была смыслом встречи – возможно, это было на Эльбе, у воды или в самой воде.
Потом я оказалась на деревянном мостике, одна, и вдруг горе пронзило меня, словно удар молнии, так сильно, что я начала всхлипывать, но слез не было. Я упала на колени, по-прежнему одетая в купальник, и наклонилась вперед, закрывая лицо руками. Кто-то подошел сзади – не мать, кто-то другой, мужчина. Мой муж? Но ведь моего мужа не было рядом, когда умирала мама, его не было ни в траурном зале, ни на кладбище, ни на Чехелом, ни когда я возвращалась домой – это было страшнее всего. Этот кто-то коснулся моего плеча, моей дрожащей спины. Постепенно я успокоилась, встала, но, когда оглянулась, никого не было рядом, только какие-то люди вдали – возможно, моя семья, возможно, просто незнакомцы. Горе время от времени накрывало меня, как волны, уже не так сильно, но без слез, лишь с редкими всхлипываниями.
И вот она появилась рядом, моложе, чем при последней встрече, еще не согнувшаяся от болезни, она стояла чуть позади меня, спокойно, не отстранялась, но и не приближалась, на меня не смотрела или, может, все-таки смотрела? Да, смотрела – мягко, дружелюбно. Я никогда не замечала у нее такого взгляда при жизни, только теперь, на фотографиях. Она стояла там, моложе, чем при смерти, с ангельским лицом, как в гробу, прежде чем его накрыли саваном, – этот последний мирный образ перед ужасом последней встречи – стояла прямо, безучастно, но дружелюбно, когда я повернулась к ней, ей не было плохо, она видела меня, я хотела заговорить, хотела сказать: «Мама». Сказала ли? Кажется, я проснулась в ту секунду, когда она должна была ответить.