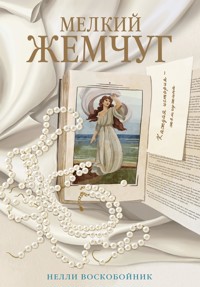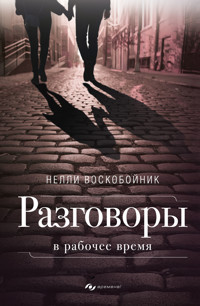
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Время
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Russisch
Героиня этой книги оказалась медицинским работником совершенно неожиданно для самой себя. Переехав в Израиль, она, физик по специальности, пройдя специальный курс обучения, получила работу в радиационном отделении Онкологического института в Иерусалимском медицинском центре. Его сотрудники и пациенты живут теми же заботами, что и обычные люди за пределами клиники, только опыт их переживаний гораздо плотнее: выздоровление и смерть, страх и смех, деньги и мудрость, тревога и облегчение, твердость духа и бессилие — все это здесь присутствует ежечасно и ежеминутно и сплетается в единый нервный клубок. Мозаика впечатлений и историй из больничных палат и коридоров и составила «Записки медицинского физика». В книгу вошли также другие рассказы о мужчинах и женщинах, занятых своим делом, своей работой. Их герои живут в разные эпохи и в разных странах, но все они люди, каждый по-своему, особенные, и истории, которые с ними приключаются, никому не покажутся скучными.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
НЕЛЛИ ВОСКОБОЙНИК
Разговоры
Разговоры в рабочее время
Москва 2025
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
16+
Художественное оформление
Валерий Калныньш
Воскобойник, Н. Б.
Разговоры в рабочее время : рассказы / Нинель Борисовна Воскобойник. — М. : Время, 2025. — (О времена!).
ISBN 978-5-9691-2601-5
Героиня этой книги оказалась медицинским работником совершенно неожиданно для самой себя. Переехав в Израиль, она, физик по специальности, пройдя специальный курс обучения, получила работу в радиационном отделении Онкологического института в Иерусалимском медицинском центре. Его сотрудники и пациенты живут теми же заботами, что и обычные люди за пределами клиники, только опыт их переживаний гораздо плотнее: выздоровление и смерть, страх и смех, деньги и мудрость, тревога и облегчение, твердость духа и бессилие — все это здесь присутствует ежечасно и ежеминутно и сплетается в единый нервный клубок. Мозаика впечатлений и историй из больничных палат и коридоров и составила «Записки медицинского физика».
В книгу вошли также другие рассказы о мужчинах и женщинах, занятых своим делом, своей работой. Их герои живут в разные эпохи и в разных странах, но все они люди, каждый по-своему, особенные, и истории, которые с ними приключаются, никому не покажутся скучными.
© Н. Б. Воскобойник, 2025
© «Время», 2025
ПРЕДИСЛОВИЕ
Первую половину своей жизни я провела за письменным столом в кабинете на четверых. Формулы, расчеты, программы, кандидатские минимумы, заседания Ученого совета — вот что наполняло нашу жизнь. Тот, кто защитил диссертацию, переходил в кабинет на двоих, а его место за столом занимал новичок, недавно окончивший университет. Все мы были молоды, образованны, бедны и, в сущности, вполне благополучны. Что могло случиться? Можно было поссориться с мужем, получить выговор от начальника. У ребенка могла быть ангина или резались зубки. Однажды сорвалась защита, потому что один из членов Ученого совета уехал в деревню на похороны тетки. Диссертант ужасно переживал, и мы все сочувствовали ему, примеряя такое несчастье на себя.
До моей защиты дело не дошло. Мы жили нашими частными делами, не подозревая, что у Истории на нас свои виды. Мою семью подхватила высокая и неожиданная (как всегда) волна нового переселения народов, и мы на гребне этой волны перенеслись в маленькую жаркую страну, где чиновники были нерадивы, добродушны и смешливы, люди говорили на незнакомом языке, все пили воду с малиновым сиропом и горожане охотно раздавали новоприбывшим отслужившую мебель и домашнюю утварь.
Первую ветхую тахту мы привезли к себе домой на повозке, запряженной старенькой унылой лошадкой. Извозчик был тоже очень стар и говорил на каком-то дореволюционном русском языке. Рассказал нам, что его младший сын живет в Роттердаме и владеет фирмой по торговле бриллиантами.
Тогда мы почувствовали, что жизнь интереснее, сложнее и многообразнее, чем нам представлялось, пока мы сидели в своих научно-исследовательских институтах. И куда опаснее.
Потом я тридцать лет проработала в больнице и узнала много интересного про жизнь, смерть, страх, долг, предательство и преданность, про страдание, любовь, надежду и самопожертвование. Таким опытом тянуло поделиться. И я стала писать книжки.
ЗАПИСКИ МЕДИЦИНСКОГО ФИЗИКА
НА ГРЕБНЕ
Мы с мужем и детьми приехали в Израиль из Тбилиси на самом гребешке самой высокой волны Великого переселения евреев. В день приезжала тысяча человек, и так год подряд. Организация приема была безупречной. Но после того, как мы прошли все инстанции, сняли квартиру в Нетании — чудесном приморском городе, определились в ульпан и получили свое пособие, настал момент присмотреться к возможности устроиться на работу. Мне казалось, что я лишена всяких иллюзий и заранее готова работать не по специальности. В моем воображении это была работа водителя троллейбуса.
У Левы была любимая история о том, как в первом классе учительница опрашивала детей, кто может выступить на концерте самодеятельности. Лева сказал, что он будет играть на аккордеоне. В большом возбуждении он вернулся домой и попросил маму взять аккордеон у двоюродного брата, чтобы сыграть на нем на концерте. «Но, Левочка, — сказала мама, — ты же не умеешь играть на аккордеоне!» И Лева заплакал: он забыл, что не умеет. То же было и со мной. Я забыла, что не умею водить машину, и вовсе не знала, что в Израиле нет троллейбусов.
Работы для двух физиков не было никакой. Даже надежда устроиться официантами за одни чаевые оказалась слишком радужной. В счастливый день русская газета принесла нам объявление, что в Иерусалиме производится набор физиков и врачей на курсы переквалификации по специальности «техник радиотерапии». До Иерусалима нам было четыре часа езды, но мы помчались на собеседование и, пользуясь всеми своими ораторскими способностями, опиравшимися на семьдесят пять скверно выученных ивритских слов, это собеседование успешно прошли.
Примечательной была короткая беседа между председателем комиссии и моим мужем, соискателем завидного места учащегося. Наш будущий шеф спросил, понимает ли Лева, что работа связана с тяжелыми психологическими нагрузками. А Лева спросил, тяжелее ли это, чем сбор апельсинов на плантации в полдень. Зелиг внимательно обдумал ответ, прикинул, вздохнул и сказал, что в полдень на плантации, пожалуй, хуже.
Мы живо перебрались в Иерусалим, перевели детей в местные школы, перевезли наши измученные переездами книжные шкафы и зажили припеваючи, наслаждаясь близостью Старого города, забытой прелестью серьезной учебы и стипендией, которая позволяла покрыть только абсолютно необходимые расходы на поддержание наших четырех жизней.
Квартира, которую мы сняли, располагалась в пятнадцати минутах пешего хода до колледжа, где мы учились. Мы жили на втором этаже. Первого не было. Вместо него была площадка с колоннами, на которые опирался дом. Площадка эта в те времена представляла собой биржу дешевейших проституток Израиля. Там они стояли, поджидая клиентов, там торговались с подъезжающими на машинах и там же выясняли отношения со своими работодателями. Прямо под нашими окнами.
На вид они были ужасны. Наш четырнадцатилетний сын, просто наблюдая ежедневно эту картинку у дома, получил пожизненное отвращение к продажной любви. Зато приобретенный им лексикон вызывал неподдельное уважение во всех мужских коллективах, в которых он с тех пор учился, а это были две школы, религиозный колледж, армейское подразделение и офицерские курсы.
А мы тем временем изучали иврит и анатомию, физику и физиологию, онкологию и электронику, записывая все лекции ивритскими словами, но русскими буквами. Потом настало время стажировки, и мы столкнулись с необходимостью прикоснуться к чужому телу — например, взять человека за руку и переложить ее за голову. Или согнуть ногу пациента в колене. Для меня это оказалось тяжелым испытанием. Моя стыдливость корчилась в муках неописуемых. Для Левы это было вообще невыносимо. Он не мог совладать со своей брезгливостью. Но выбора не оставалось. И мы привыкли.
АНАТОМИЯ ПО АВИ КАСПИ
В девяностых годах был такой затасканный анекдот: в Тель-Авивском аэропорту садится очередной самолет с репатриантами из России. Один грузчик спрашивает другого: «Слушай, а что это за странные типы, что спускаются по трапу без скрипок?» Более опытный бросает беглый взгляд и отвечает: «А, эти... Это пианисты!»
Шутка, конечно. На самом деле приезжали и простые люди, не одни профессора. Всякие доктора, геодезисты, инженеры, программисты, учителя, фармацевты, химики и прочий практически-служивый люд. Ну и конечно же сотрудники множества кафедр марксизма-ленинизма, чуть ли не полным составом.
Все мы наслушались отеческих поучений «Голоса Израиля», который категорически не обещал нам райских кущ, а обещал трудности и понижение статуса. Все знали, что примы-балерины будут танцевать в кордебалете, первые скрипки перейдут в группу вторых, врачи станут медсестрами, а инженеры устроятся техниками.
Соврали, как всегда! Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем врачу стать медбратом...
Поначалу абсолютно все, без различия пола и ученой степени, мыли лестничные клетки, а через десять лет профессора уже заведовали кафедрами, врачи лечили больных, мостостроители проектировали тоннели, химики помыкали лаборантами, а специалисты по марксизму-ленинизму процветали в Cохнуте.
И даже дети, бросившие в Тбилиси физматшколу, оказались единственными из своего класса, кто работает сейчас по специальностям, связанным с их склонностями. Все одноклассники моего сына в Израиле — программисты, электронщики, учителя математики. А все оставшиеся занимаются чем угодно — спорт, религия, бизнес, журналистика, но ничего физико-математического...
Однако это преамбула. Амбула будет про то, как мы с Левой учились на курсах переквалификации, чтобы, согласно своим надеждам, получить дипломы, а потом квалифицированную, достойную и постоянную работу.
Первые месяцы все предметы — а это были анатомия, рентген и иврит — нам преподавал молодой худющий смешливый парень, который, родись он в Одессе, звался бы Абрашей Зильбером. А родившись в Иерусалиме третьим поколением от приехавших из Одессы, он стал Ави Каспи. Мы все были старше его, и он относился к нам с почтительной симпатией. Наш убогий иврит вынуждал его иллюстрировать почти каждую фразу картинками, рисунками на доске или хотя бы жестами. Например, поясняя один анатомический термин, он встал, расставив ноги, спиной к классу, согнулся так, что смотрел на нас снизу-вверх между ног, указкой очертил пространство, на котором соединялись его левая и правая брючины, и сказал раздельно: «Запомните — это перине́ум!»
Однажды он принес в аудиторию задачу повышенного уровня сложности, которую задали его сыну — ученику четвертого класса. То, что мы решили ее без всяких затруднений, привело Ави в восторг. Мы казались ему людьми необычайно образованными и интеллектуальными, носителями драгоценной и уникальной культуры и неописуемых математических способностей. Он рассказал, что когда сам учился в школе, к ним пришел новый учитель математики, дал детям контрольную, а потом вызвал его к своему столу и сказал: «Смотрите, дети, на Ави — он единственный из всех получил пятерку». Рассказывая это, наш педагог слегка затуманился и пояснил: «Остальные получили не меньше семидесяти».
Он учил немолодых репатриантов анатомии, рассказывал старые анекдоты, объяснял главные события в стране, подписывал ведомости на наши стипендии, подбирал учителей по предметам, которые не мог преподавать сам, и отвечал на все вопросы, какие нам удавалось задать на своем корявом иврите.
КАССОВЫЙ СБОР
Однажды случилось чудо — неожиданно и невероятно повезло! Мне предложили на послеобеденное время место кассирши в небольшом продуктовом магазине. До двух тридцати я занималась на курсах, а с трех меня поджидал стул за кассой в густо религиозном районе Маалот Дафна. До меня это место занимала моя подруга, которая утром училась на курсах подготовки к экзаменам по медицине. Она успешно сдала эти экзамены, получила лицензию врача и работу в больнице и подарила лакомое местечко мне. В свою очередь и я, сдав свои экзамены и получив место в больнице, не оставила кассу на произвол судьбы, а передала ее другой подруге, которая шла этим же, не совсем тернистым, но и не усыпанным розами путем.
После окончания занятий у меня было полчаса, чтобы самым быстрым шагом дойти до места работы. Иногда по дороге мне встречался почтенный бородатый еврей среднего возраста с короткими пейсами, одетый в аккуратно перепоясанный черный лапсердак. Обыкновенно он приглашал зайти к нему домой выпить стакан кофе. То был общеизвестный пароль — мне предлагался короткий и недорогой перепихон. Я вежливо отказывалась. Он не настаивал. К трем я успевала подойти к дверям и присутствовала при том, как управляющий открывал магазин после перерыва.
Эта работа запомнилась мне как место, где я добилась самого большого в своей жизни успеха. За две или три недели, нисколько не напрягаясь, я запомнила цены на подавляющую часть товаров, которыми торговал магазин. А ведь память моя устроена таким образом, что я не запоминаю ничего, кроме стихов. Я никогда в жизни не помнила постоянную Планка или число Авогадро, и даже логарифм двойки оставался для меня пленительной загадкой. Но цена мягкого сыра девятипроцентной жирности производства компании «Тнува» была мне таинственным образом известна в любое время дня и ночи. А там продавались сотни продуктов и еще всякие средства для уборки, мыло, мочалки, зубные щетки всех размеров и конструкций.
— Здравствуйте, госпожа Зонненблик. Курица, яблочный джем, картошка, абрикосы и обувная щетка. Сколько булочек? А субботних свечей? Записываю на ваш счет. Передавайте привет супругу. Какой милый у вас Хаимке — он вчера приходил по вашему поручению и вел себя очень хорошо, совсем как взрослый.
— Добрый день, госпожа Розенфельд! Три пачки муки, сахар, молоко, дрожжи, изюм — печете что-нибудь особенное? — мясной фарш, апельсиновый сок и зубная паста. Сто восемьдесят три шекеля. Записываю на вашу карточку.
За это на исходе пятницы (по пятницам я работала с утра до двух) управляющий награждал меня кексом и бутылкой виноградного сока. И то и другое с удовольствием принимали мои дети, почти не видевшие тогда никаких лакомств и сладостей. Кроме того, я получала зарплату, которая составляла пятьсот шекелей в месяц. Как раз сумма, необходимая, чтобы заместить горькую нищету благородной бедностью.
Ну и самое интересное: я видела там жизнь ортодоксов изнутри. И главной учительницей моей была вторая кассирша — Хая. Она меня очень жалела за то, что я была не религиозна и мой муж даже не дал мне ктубы1, которая защитила бы меня в случае развода. Самой ей муж дал не только ктубу, но и гет2. Она жила с детьми у своей мамы, порядочной мегеры, и не получала даже алиментов. Но этого она не замечала. Ее рассказы потом годами составляли фонд моих лучших историй за семейным столом и в гостях. Вот один из них.
Однажды она поведала мне, что первый раз в жизни была на театральном представлении. Приехала труппа из Бней-Брака, вполне одобренная иерусалимскими раввинами. Хая, волнуясь и захлебываясь, рассказывала ужасно трогательную историю, которая произошла во время войны. Маленькая еврейская девочка осталась без родителей и выросла, не зная, что она еврейка. А потом — медальон на шее? письмо в пожелтевшем конверте? свидетельство маразматической соседки? — она узнала, что ее семья живет в Израиле. И приехала, чтобы увидеть родных. Она успела встретиться с матерью, лежавшей на смертном одре, и поцеловать ее, прежде чем старушка испустила дух.
Тут Хая критически посмотрела на меня и сказала уже другим голосом: «Ты понимаешь, это трудно объяснить — на самом деле она не умерла! Это только как будто... Когда мы хлопали, она вышла и поклонилась. Ее играла актриса. А умерла мама той девочки — это большая разница! Но нам всем очень понравилось!»
КУЛЬТУРА
Потом мы с мужем сдали экзамены и нас обоих, ко всеобщему удивлению и восторгу, приняли в Институт онкологии огромной иерусалимской больницы Хадасса, что было для его руководства совсем не просто, поскольку муж с женой по закону не должны работать вместе.
На самом нижнем, подвальном, этаже просторного здания института располагалось отделение радиотерапии — легендарное место, вызывающее у многих мистический ужас, в котором соединяются и усиливают друг друга два пугала двадцатого века — онкология и облучение.
Как мы потом узнали, в радиотерапии до нас сложилась напряженная ситуация. Опытные техники, почувствовав свою важность и незаменимость, выдвинули заведующему отделением неприемлемые требования.
Не знаю уж, чего именно они добивались, но завотделением Зелиг был не такой человек, чтоб поддаться шантажу. Он был действующим армейским полковником и своей решительностью не уступал Моше Даяну. Почувствовав зависимость от шести работавших у него техников, он не стал с ними и дальше препираться, а пробил через самые высокие инстанции — министерство здравоохранения и министерство абсорбции — разрешение на открытие курсов по подготовке техников для пяти отделений радиотерапии, разбросанных на просторах Израиля. В считаные недели он утряс все вопросы, связанные с лицензией на право обучения, учебной программой, помещением, штатом преподавателей, зарплатой для них и стипендией студентам.
И для него открылась возможность отобрать из «понаехавших» лучшие кадры — мы готовы были работать где угодно, и он призвал под свои знамена врачей и физиков, не надеющихся сохранить свой статус в жуткой толчее новоприбывших.
Первого августа тысяча девятьсот девяносто первого года мы начали учиться. Зелиг сам преподавал нам онкологию и изменил мое представление о жизни, рассказав на первой же лекции, что больше сорока процентов заболевших раком в наше время излечиваются сразу. Половина оставшихся становятся хроническими пациентами и живут еще пятнадцать — восемнадцать лет. И только очень небольшая часть раковых больных (в основном запущенные случаи из-за несвоевременной диагностики) имеют зловещий прогноз. После этой лекции мы другими глазами посмотрели на болезнь и на нашу будущую работу.
Ровно через полтора года Зелиг отобрал для работы в своем отделении семь человек из пятнадцати закончивших курс. Трое из них были по образованию врачи, двое — физики, одна женщина — биолог, другая — инженер-электронщик.
Старожилы приняли нас довольно дружелюбно. Учитывая наш жалкий иврит и нашу роль козырных карт в игре, которую Зелиг выигрывал у них нокаутом, можно сказать, что приняли идеально.
Зелиг сам распределял нас по рабочим местам. Сначала он спросил каждого, где и с кем человек хотел бы работать, а потом распределил по своему усмотрению, абсолютно не сообразуясь с нашими пожеланиями. Меня и мою подругу Любу, как наиболее хилых и низкорослых, но с неутраченным интеллектом, он направил в симулятор — мозговой центр радиотерапевтического отделения. И мы проработали там несколько лет, пока Люба не сдала экзамен на медицинскую лицензию. После этого ее взяли с Зелигиного благословения на итмахут3 в онкологическое отделение, она прошла все адские муки суточных дежурств с последующим рабочим днем, все унижения новичка, все приступы отчаяния и бессилия, прекрасно сдала оба главных экзамена и стала специалистом-онкологом. И проработала в этом качестве двадцать пять лет.
Инженер-электронщик, не будучи связана ни генетически, ни духовно с жизнью еврейского народа, решила, что нет никаких причин отдавать своих детей израильской армии, и уехала в Канаду.
Мы с Левой — сначала он, а потом и я — понадобились в группе физиков и перешли туда с большим удовольствием.
Другой врач — наша общая любимица, русская по крови, но безоговорочно влившаяся в израильскую жизнь, большая, веселая, умелая, живой праздник, — вынуждена была уехать в Москву за своим еврейским мужем-авантюристом. Там он стал израильским бизнесменом и, кажется, на одном из ухабов новейшей российской истории взлетел до нешуточного экономического процветания. Их сын приезжал в Израиль, чтобы отслужить в армии, а потом вернулся к родителям в Москву.
Третий врач при первой же освободившейся вакансии стала старшим техником и взяла на себя ответственность за множество молодых ребят и девочек, выпускников университета по специальности «рентген», которые были приняты на работу к тому времени.
Биолог стала техником высочайшей квалификации, и не по служебной обязанности, а просто в силу своего характера, всегда и везде требующего безупречности, контролирует и исправляет неполадки, возникающие при воплощении идеальных планов в реальном мире пациентов.
Оглядываясь назад, я с нежностью вспоминаю добрую, толстую, безалаберную и простодушную старшую сестру отделения Ханну, которая в один из первых дней обняла меня за плечи и, ведя по коридору, нашептывала успокаивающе мне на ухо: «Не переживай, пройдет время, все устроится, вы даже сможете пойти в театр — будет и у вас культура!»
О МИСТИЧЕСКИХ ТАЙНАХ
Завидная работа в симуляторе досталась нам с Любой только потому, что были мы небольшого роста и слабосильны, по этой причине другая работа в отделении была нам не по плечу. Властвовал в симуляторе Элиша. Кроме него, симуляцию — первоначальное планирование лечения — умела делать только одна его ученица, которая через несколько месяцев работы с ним категорически отказалась от такого рода деятельности и ушла из легкотрудниц в рядовые техники. Где чувствовала себя прекрасно.
Нас Элиша бросился обучать с жаром. Он рассказывал нам массу важнейших полезных вещей, касающихся симуляции. Делился своим громадным опытом. Вспоминал редкие случаи из своей практики. Подчеркивал важность глубокого понимания природы заболевания. Погружал нас в тонкости этики. Пересказывал все новинки из свежей медицинской литературы, услышанные им от врачей, — и все это на высочайшем иврите, из которого мы понимали поначалу треть, а позднее — даже половину.
Через месяц Зелиг осведомился, можем ли мы самостоятельно сделать простейшую симуляцию. Мы только усмехнулись: не такое, мол, это дело, которому можно обучиться за месяц. В отсутствие Элиши мы пытались, подражая ему, делать все манипуляции, имитирующие настоящую симуляцию, но заключительный этап — снимок — нам не удавался. Видимо, как в восточных единоборствах: не постигнув во всей полноте философскую систему, невозможно стать настоящим борцом.
Но вот случилось так, что Элишу скрутил радикулит. Он остался дома, а мы, сироты, в симуляторе. Тут к нам заглянула бывшая ученица Элиши — женщина, предпочитавшая простые речи и конкретные действия и питавшая глубокое отвращение к словесам. «Смотрите, — сказала она, — на эту кнопку нужно нажать до середины. Когда загорится зеленая лампочка — до конца. И всё!»
В этот день мы сделали все четыре запланированные симуляции. Было немножко жаль испарившегося таинства. И опыта, конечно, не хватало. Но последний редут был взят, и Зелиг мог теперь опереться на свой крохотный легион. Ну, скажем, не легион, а когорту, но преданную ему безмерно.
РОМАНТИК
Элиша был маленьким живым, энергичным тайманцем4. Много лет он проработал техником в радиотерапии. В сущности, он сам освоил искусство симуляции и передавал ему другим. Нас с Любой приставили к нему ученицами, и он был терпелив и великодушен. Сносил нашу безъязыкость и бестолковость, а когда мы немного подучились, начал даже вносить в наши отношения элементы равноправия. Он любил и понимал свою работу, хорошо относился к больным и чудесно управлялся с детьми. Иногда, чтобы подружиться с малышом, Элиша бегал с ним наперегонки на четвереньках. Но уж потом маленький пациент лежал не шевелясь и позволял нам работать без помех. Единственной серьезной проблемой Элиши был его бурный темперамент. Он ввязывался в скандал с начальством или сотрудниками совершенно неожиданно и самозабвенно и носился по длинным коридорам, стуча библейскими сандалиями и призывая всех встречных принять его сторону. Крики эти были абсолютно бескорыстны и клонились исключительно к пользе человечества. Собственно говоря, такой разгул стихии оказывался неожиданным только для стороннего наблюдателя. Мы же видели, как зарождаются тайфуны, и даже приноровились их предотвращать. Для этого достаточно было навести мысли босса на тему, которая была бы ему интереснее скандала. Это не всегда удавалось, но мы, лукавые ашкеназки, нащупали три-четыре беспроигрышных варианта и бессовестно их эксплуатировали.
Первый из этих вариантов: Элиша горячо любил свою жену и обожал потолковать о ее добродетелях.
Второй: профессор Фукс — один из предыдущих заведующих нашим отделением. Вечный и неоспоримый пример-упрек всем прочим. Чтобы проиллюстрировать тесноту их с Фуксом взаимопонимания, Элиша растопыривал пальцы обеих рук и звучно соединял кисти в замок. На лице его в это время блуждала счастливая улыбка.
Третий: конечно же любимые примеры из богатой практики общения с пациентами и врачами. Например, история о том, как Элиша пожал руку умирающему, которого хорошо знал, и сказал, наклонившись к его постели: «Не волнуйся, я с тобой!» После чего пациент умер счастливый, а члены его семьи долго приходили в больницу поблагодарить Элишу за его находчивость и душевность. Или история о том, как, будучи студентом рентгенотехники, Элиша уличил профессора в незнании азов анатомии, ну и прочее в этом роде… Он никогда не врал, но интерпретировал события в соответствии со своим неукротимым поэтическим воображением.
Можно было попытаться навести разговор на военное прошлое, что для нас, не видевших живую историю Израиля, было самым интересным. Но все это не казалось ему достойным пересказов, хотя он участвовал во всех войнах, служил минером и вполне реально и повседневно рисковал жизнью. Поэтому мы слышали всего несколько действительно очень интересных историй и только по одному разу.
Наш шеф был удивительно простодушен. В последние годы он начал почитывать книги и, будучи человеком впечатлительным, охотно и с жаром пересказывал их содержание. Обычно книги эти имели нравоучительный характер и подробно объясняли, что полезно и что вредно для человеческой души и тела. Примерно в это же время в его работу стали бурно вторгаться новые технологии. Компьютеры нисколько не раздражали Элишу. Хотя он и оказывался совершенно беспомощным перед ними, но любопытство всегда брало верх над осторожностью. Ему было ужасно интересно, что будет, если нажать на левую кнопку мышки. А что, если на правую? Безо всякого намерения он умудрялся менять вид ежедневно используемых окон, по простоте душевной устанавливал новые дефиниции, так что, приходя утром после его вечерней смены, мы только разводили руками, не видя привычных интерфейсов. В конце концов он заметил, что мы вздыхаем с облегчением, когда заканчивается его смена.
К тому времени Хадасса оказалась на грани разорения и предложила отличные условия тем высокооплачиваемым сотрудникам, кто выйдет на пенсию раньше срока. Люба тогда уже работала врачом в нашем отделении. И Элиша ушел, оставив меня командовать в симуляторе и, следуя его примеру, снисходительно объяснять молодым врачам в чем, собственно, состоит их предназначение.
ЛЮБИТЬ НАЧАЛЬНИКА
Зелига, начальника отделения радиотерапии, мы все обожали, и на то имелись основания. Он был красавец, прекрасный онколог и полковник действительной службы. Женщины любили его и пользовались взаимностью. Кроме сотрудниц. По-видимому, у него были на этот счет твердые правила, о чем некоторые из нас откровенно сожалели. Теперь, через много лет, я понимаю, что у него были свои недостатки, но тогда он казался абсолютно безупречным. Рыцарем без страха и упрека. Он действительно никогда и никого не ругал, не упрекал, не корил, не распекал, не журил и не требовал объяснений. Ему и так подчинялись беспрекословно.
В нашей преданности было что-то феодальное — некое чувство его несомненного права всем распоряжаться, которым он, кстати говоря, пользовался исключительно редко. Он был прекрасным сюзереном. Все неприятности, проблемы, ошибки, контакты с высшим начальством и жалобы больных брал на себя, без удовольствия, но как бы по уговору.
Однажды мы лечили жену хозяина огромной фирмы лечебной косметики. Она была славная свойская тетка, болела почти безобидной (при безупречном лечении) формой рака. И, по закону подлости, как раз на нее выпала ошибка в расчете дозы. Она должна была получить тридцать облучений, а при проверке расчета, который сделали после двадцать четвертого, выяснилось, что она получила уже всю дозу, и даже пять процентов лишних. Счастье, что контрольный расчет не опоздал. Ущерб был невелик, но уже через минуту виновный физик стоял в кабинете начальника отдела и каялся в содеянном. Теперь надо было объясняться с пациенткой и ее мужем.
В старом мультике спесивый царевич собирался прикончить Змея Горыныча. «Имей в виду, — предупредил его доброжелатель, — этот Змей как раз витязями и питается…» Муж нашей пациентки, владелец фармацевтического княжества, имел в своем распоряжении среди прочего десяток адвокатов, специализирующихся на медицинских исках. Собственно говоря, они и жили-то за счет медицинских ошибок. Так что объяснение Зелигу предстояло нешуточное. Он зазвал их в свой кабинет и выложил все как есть. Через полчаса супруги вышли из кабинета шефа спокойные и почти довольные. Не знаю, как уладился нарождающийся скандал, но думаю, что они отыскали общих армейских друзей или выяснили, что воевали вместе в какой-нибудь из наших войн, или что-то в этом роде.
Вообще, военное прошлое связывало Зелига со множеством разных людей. Управляющий делами министерства здравоохранения был его командиром роты; премьер-министр — майором в том полку, где он служил лейтенантом; старшая сестра больницы — той самой Рути, которая складывала парашюты его взводу (выходит, он был когда-то и десантником?); водопроводчик, который чистил засорившуюся раковину в его в кабинете, — сержантом на офицерских курсах, когда он там учился…
Зелиг мог делать несколько дел одновременно — почти как Наполеон, разговаривая при всем при этом по телефону. Великолепным его талантом была способность выбирать одно решение из двух возможных. Где другой потратил бы часы на взвешивание и обдумывание недостаточных для решения доводов и контрдоводов, Зелиг решал вопрос за пару секунд, твердо и бесповоротно. Вероятно, он иногда ошибался, но мы об этом ничего не знали. Он был не из тех, кто готов прилюдно обсуждать свои ошибки.
Больные любили его за надежность. Он выслушивал их и даже не подавал виду, что его время страшно дорого и в переносном, и в самом прямом, денежном, смысле.
Однажды я слышала его беседу с пациентом, который переехал в Иерусалим из Англии. Тот рассказывал, что жил в Манчестере и давно хотел вернуться домой, но последние восемь лет лечился от рака у своего врача, очень верил ему и не решался с ним расстаться.
— Мой врач был похож на тебя, — рассказывал пациент, — такой же высокий, молодой, как ты. Ты ведь не куришь? Вот! И он тоже не курил.
— Так что же ты его бросил? — улыбаясь, спросил Зелиг.
— Понимаешь, он вдруг заболел раком и умер за один месяц, — расстроенно ответил старик.
…Теперь Зелиг работает в Филадельфии. Он там директор Института радиотерапии. Думаю, бюджет его больницы не меньше бюджета нашего министерства здравоохранения.
АДОЛЬФ ШУЛЬЦ
Адольф Шульц, полицейский из города Боргентрайх, потерял аппетит. То есть сначала он даже не заметил, что есть не очень хочется. Просто после еды начинало крутить живот. Потом его стало тошнить, и однажды он сблевал прямо на рабочем месте, регулируя движение на перекрестке. Он был здоровым мужиком и если простужался, то лечил себя шнапсом, сыпанув туда хорошую порцию перца. В этот раз от такого лечения он чуть не помер. Боль была ужасная, а рвота не прекращалась несколько часов. Тогда Шульц пошел к врачу. Врач послал его на рентген. Там Шульцу дали выпить какую-то густую белую гадость, которая тоже не задержалась в желудке надолго. Но несколько снимков сделать успели.
— Герр Шульц, — сказал врач, — я подозреваю, что у вас рак желудка. Поезжайте в Ганновер. Там хорошая больница «Зилоа централе». Они поставят точный диагноз и сделают вам операцию.
Шульц врачу не поверил. Он вообще почти не выезжал из города, только иногда на важные футбольные матчи. Туда он ехал в большой группе, где все были друзьями еще со школы или приятелями по работе. Он знал в лицо всех жителей города и среди своих не был застенчив, тем не менее уезжать на чужбину опасался. Дни шли, а он мучился болями и почти не ел.
Воскресенья Шульц обычно проводил с семьей сестры. Гулял с ними по набережной Везера, потом у них обедал, а вечером вместе со свояком и племянниками смотрел по телевизору бокс. Когда он пропустил пару таких посещений — не было аппетита, да и слабость одолевала, — в воскресенье его сестра Матильда, не довольствуясь обычными телефонными звонками, пришла к нему сама. Она ахнула и расплакалась, увидев Адольфа. За последний месяц он страшно похудел и вообще внешне изменился.
Матильда была решительной женщиной. Она метнулась домой, собрала вещи, велела мужу по утрам отводить младшего в сад, а у старшего проверять каждый день тетрадку по арифметике и вернулась к Адольфу. Наутро они выехали автобусом в Ганновер. Диагноз подтвердился. Шульца заставили проглотить кишку и взяли через нее пробу из опухоли, заполняющей его желудок. Сомнений не оставалось. Врач сказал, что спасти может только операция. Матильда снова заплакала, но взяла себя в руки и потребовала встречи с профессором. Через три дня их принял главный онколог «Зилоа централе». Он был дружелюбен и охотно объяснял детали. Сказал, что опухоль неопасная, если вовремя удалить желудок. Называется она лимфомой. В отличие от более страшных видов рака, эта после операции почти никогда не возвращается, и, если соблюдать строгую диету, герр Шульц сможет прожить еще многие годы. Надо будет только есть понемногу мягкую или жидкую пищу, и можно потребовать от государства признания инвалидности и солидного пособия. Тут Матильда по-настоящему ужаснулась. Она представила, что Адольф до конца жизни будет питаться жидкой овсянкой и решила, что ему лучше умереть.
— Умоляю вас, герр профессор, — сказала она, — нельзя ли без операции?
Профессор побарабанил пальцами по столу и ответил: «Мы не верим, что без операции можно излечиться, но в некоторых больницах считают, что при этой болезни помогает облучение. Мой хороший приятель Зелиг Тохнер в Иерусалиме таких больных лечит без резекции желудка. Если желаете, я могу позвонить ему. Но я лично никакой ответственности за результат на себя не приму. Помните, это ваше собственное решение!»
Рыжий ражий верзила Адольф Шульц каждый год приезжает в Иерусалим на проверку. Он бросил полицию, купил маленький гараж и стал продавать подержанные автомобили. Теперь он один из самых состоятельных жителей города. После обследования он водит Зелига в давно облюбованный им ресторан, где с удовольствием ест, запивая пивом, всякую трудно перевариваемую дрянь вроде жареных свиных сосисок с тушеной квашеной капустой, вызывая у Зелига изжогу одним видом этой тяжелой, жирной некошерной пищи. Зелиг морщится и заказывает куриные котлетки. Между тем облученный немецкий желудок никаких возражений против этой еды не имеет.
ЛЮДИ — РАЗНЫЕ
Моя работа позволяет свести знакомство с самыми разными людьми из всех слоев общества. Некоторые представители человечества вызывают такие яркие чувства, что их трудно оставить исключительно для собственного пользования. Немножко расскажу здесь.
Лечился у нас пожилой профессор. Этнограф и писатель. Известный человек — у меня даже была его книга, переведенная на русский язык. Он каждый день приходил на облучение и на просьбу раздеться, что подразумевало снять обувь, приспустить брюки и что там под ними и приподнять рубашку, медленно и с удовольствием разоблачался с ног до головы. После этого вольной походкой, слегка размахивая руками, выходил из-за ширмы и неторопливо приближался к лечебному ложу. Наши девочки за годы работы привыкли к зрелищу тех частей тела, которые даже на пляже принято скрывать под одеждой. Но этот пациент приводил их в смущение. Была шокирована и я, однажды внезапно влетевшая в комнату по своим неотложным делам и столкнувшаяся с голым, довольным и раскованным знакомым, который не преминул остановиться и переброситься со мной парой слов. После этого он удобно улегся, а я удалилась, полностью позабыв, что именно привело меня в это помещение.
Под пару этому случаю помнится и другой. На симуляцию пришла молодая женщина, принадлежащая к одному из самых одиозных израильских хасидских течений. Закутанная с ног до головы многочисленными одеждами, она была еще сверху прикрыта пелериной, которая в интересах скромности скрывает даже самые общие очертания женского тела. Поэтому мы предполагали, что начнется длинная история с уговорами, уступками и компромиссами. Но нет! По первой же просьбе раздеться, что позволяло ей оставить на себе бо́льшую часть одежды, пожертвовав лишь двумя-тремя предметами, она в считаные секунды сбросила с себя все до последнего лоскутка и с интересом ожидала продолжения приключений. Оказалось, она специально ходила посоветоваться с ребецн5, и та велела ей слушаться персонал безо всяких возражений.
Еще одна незамысловатая история, которую я не могу забыть вот уже много лет, связана с мамой и дочкой. Мама была крупная полная женщина лет тридцати пяти, а дочка — худенький семилетний заморыш. Когда под действием химиотерапии у девочки стали выпадать волосы, мама обрила свою голову, и они гордо ходили, взявшись за руки, в одинаковых джинсах и майках, одинаково сверкая лысыми головами.
Самой удивительной матерью была шведка из города Уппсала. Они с мужем купили домик в Вифлееме и усыновили шестерых или семерых арабских детей с разными психическими и соматическими заболеваниями. Она была им нежной матерью, говорила с ними по-арабски и без колебаний посвящала им свою жизнь. Двух самых маленьких она приводила с собой на лечение, не рискуя оставить их на попечение старших братьев. Женщина была святой в том самом смысле, который вкладывает в это слово католическое сознание, хотя она была протестанткой. Небеса могли бы отнестись к ней милостивее, но у них, как всегда, свои виды. Через несколько месяцев ее муж, швед, остался вдовцом с больными детьми в арабском городе. Что с ним стало дальше, я не знаю...
Необычайно интересным, обаятельным и привлекательным человеком оказался известный израильский физик, крупный публицист и редактор литературного журнала. Мы вылечили его, но он много лет наблюдался у своего врача, и мне доводилось беседовать с ним и его женой, когда они приходили на ежегодные проверки. Она написала множество популярных романов и сделала его фамилию известной среди менее высоколобых читателей, чем те, которые читают его статьи по физике и эссе по культурологии. Этот человек запомнился мне сочетанием ощутимо мощного интеллектуального потенциала с мягкой внимательностью к тем банальностям, которые я вставляла в нашу беседу.
Последняя история касается человека, которого мы лечили радиоактивным йодом. Это очень успешное и надежное лечение после операции по удалению рака щитовидной железы. Единственным неудобством является то, что несколько дней после приема лекарства пациент сам немножко излучает и для безопасности семьи устанавливаются ограничения на его контакты с родными. Однако через неделю радиоактивное вещество частью распадается, частью выводится из организма и вылеченный возвращается к обычному образу жизни.
Этот человек позвонил через месяц и спросил, можно ли ему купаться в Мертвом море. Он с трогательной ответственностью опасался, что воды Мертвого моря от контакта с ним станут вредны для других купающихся. Да будет благословен маленький, не совсем здоровый гражданин, боящийся повредить своим радиоактивным телом огромному и уже давным-давно мертвому морю.