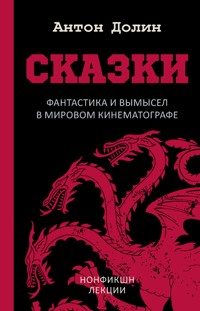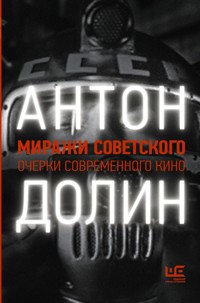Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MEDUSA PROJECT
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
«Плохие русские. Кино от "Брата" до "Слова пацана"» — очень важная книга для нашего издательства. Во-первых, ее написал постоянный (и любимый) автор «Медузы» кинокритик Антон Долин. Во-вторых, эта книга не похожа на все, что Долин делал до этого: это не рецензии на фильмы, не очерки о российском или зарубежном кино, не портреты режиссеров — это большое исследование отечественного коммерческого кинематографа XXI века и его влияния на общественное сознание. Долин отдает важнейшую роль в построении идеологии путинизма именно массовому кино. Скрепы, мифы, национальные герои, традиционные ценности, образ врага, ностальгия по СССР — многие из системообразующих идей путинского режима мы можем найти в успешных фильмах последних 20 лет. И если часть из них можно объяснить госзаказом сверху, то некоторые — очень талантливые картины — образцы исключительно авторского кино, зафиксировавшие дух времени. привычный комментарий людей искусства «Мы вне политики» автор более не признает: после российского вторжения в Украину в 2022 году все изменилось. Рассматривать кино в герметичном пространстве невозможно. Долин допускает, что некоторые кинематографисты и их фильмы невольно оказались участниками этого — довольно страшного — процесса по построению репрессивного государства, однако итог именно таков. Антон Долин и сам был активным участником киноиндустрии все последние 20 лет: кинокритик как независимых, так и государственных медиа, кинообозреватель «Вечернего Урганта» на Первом канале, бывший главный редактор авторитетного журнала «Искусство кино», защитник украинских политзаключенных, «иностранный агент»; все это время он последовательно выступал против пропагандистских и идеологически ангажированных фильмов.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Антон Долин«Плохие русские. Кино от „Брата“ до „Слова пацана“»
Памяти Леши Медведева
Пять вопросов самому себе
1. Почему «плохие русские»?
Амплуа «плохого русского» возникло довольно давно, еще при СССР, в годы холодной войны. И придумано было Голливудом. В скверных коммерческих фильмах появлялись карикатурные и стереотипные русские злодеи, носившие невозможные имена и фамилии, с наслаждением вредившие прогрессивному капиталистическо-демократическому миру. Сегодня мало кто вспомнит, к примеру, политрука Путина из «Охоты за „Красным Октябрем“» (1990).
Намеренно или нет, настоящий Путин вошел во вкус, играя кинематографического злодея из плохого голливудского кино. И уж точно эта роль нравится ястребам новейшего российского милитаризма, потрясающим ядерной дубиной (слава богу, пока лишь в качестве риторического приема) с телеэкранов. Ничего удивительного: bad guys нередко сексуальнее, чем good guys, играть злодеев актерам нравится больше. Достаточно массовая поддержка Путина по всему миру — включая Европу и Штаты, даже сейчас, через два года войны, — служит тому подтверждением.
С одной стороны, кино не может повлиять ни на какие события. Остановить войну не в его силах, даже если лучшие режиссеры и продюсеры мира вдруг одновременно снимут и выпустят сильнейшие пацифистские драмы. С другой — Путин не раз говорил, что в КГБ пошел под влиянием советского шпионского сериала «Щит и меч». Недавно, отмечая юбилей другого многосерийного советского фильма о разведчиках «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой (тонкого и умного), я задумался над тем, зашла бы нынешняя РФ в трагический тупик, если бы на роль благородного резидента-молчуна был выбран актер с меньшей харизмой, чем Вячеслав Тихонов? Ответственен ли Штирлиц, ролевая модель миллионов, за Путина? Вопросы, вопросы…
Дискутировать об отличиях «плохих» россиян от «хороших» столь же бесплодно, как в принципе о плохих и хороших людях. Каждый, втайне или открыто, считает хорошим себя, а плохими — других. Однако моральный релятивизм военных времен и потребность в обсуждении этических вопросов наравне с политическими или экономическими позволяют без иронии говорить о добре и зле.
Возвращаясь к названию книги: оно не о том, что «все русские плохие» (я и сам россиянин, кто же еще?), а о том, как из игры в кинематографические штампы, невинной или расчетливой, рождалось подлинное, не закавыченное зло.
2. О каком кино эта книга?
Мой дорогой товарищ, кинокритик и фестивальный куратор Леша Медведев, погиб страшной смертью в 2023 году, немалую часть которого я работал над этой книгой. Его памяти я посвящаю эту работу.
Однажды Леша — человек не только проницательный и благородный, но и непримиримо порядочный — зашел ко мне в гости. Дело было несколько лет назад, до войны. Мы говорили об очередной чудовищной российской киноновинке, обсуждая качество отечественного мейнстрима как общепринятую фигуру умолчания: никто не скажет и не напишет как есть никто не скажет и не напишет как есть — неохота мараться и наживать врагов. Тогда я поделился с ним замыслом написать исследование именно о плохих фильмах, вычленить их основные ошибки и прегрешения перед зрителем. Он сразу загорелся и сказал, чтобы я слишком не мудрил со своими системами, а написал о плохом кино как можно прямолинейнее, не дав себе ускользнуть в лазейку эстетских игр и критического контрарианства («все ругают, значит, я похвалю»). Надеюсь, я выполнил данное тогда обещание.
Почти четверть века я писал статьи для лучшего, с моей точки зрения, российского журнала о кинематографе «Искусство кино», в последние пять лет до 2022-го был его главным редактором. Каждый раз, когда я предлагал всерьез проанализировать очередной отечественный блокбастер, коллеги на редколлегии закатывали глаза. Кино-то плохое, чего о нем писать? А что вся страна его смотрит — так это ее, страны, проблемы.
Сегодня это наши общие проблемы. Возможно, одна из причин в том, что мы слишком долго отворачивались от того непривлекательного материала, который необходимо было разбирать, писать о нем, говорить. Из него и состоит матрица нынешней реальности.
Но что это вообще такое — «плохие фильмы»? Все относительно и зависит от вкуса, это общеизвестно. Но не только в этом дело. Давным-давно я пришел к парадоксальному выводу: кино слабое и неталантливое не стоит того, чтобы его клеймить, оно само провалится в прокате и благополучно забудется, а вот успешное всегда в чем-то талантливо и интересно, даже если противоречит нашим персональным установкам, привычкам и вкусам.
В этой книге я совершил простой выбор. Условно «плохими», хоть нередко талантливыми и по разным причинам достойными анализа, я обозначаю фильмы, волей или неволей участвовавшие в строительстве той идеологии, которая породила путинизм и его самые страшные составляющие — цензуру, репрессии, войну.
Таким образом, речь пойдет вовсе не о победителях фестивалей, лауреатах премий, названия которых (мы все в это верим) останутся в истории. Напротив, я пишу исключительно о коммерческом мейнстримном кинопродукте, к которому подчас без уважения относятся собственные создатели. О тех фильмах, которые смотрят миллионы (минимум миллион зрителей — условие для большинства картин, о которых я здесь пишу) и которые так или иначе воздействуют на аудиторию.
3. Что такое путинизм?
Эта книга — не кинокритическое исследование, хоть я и считаю себя кинокритиком. Ближе к эссеистике или, если угодно, публицистике. Как раз кинокритический взгляд для подобной работы контрпродуктивен. Я и мои коллеги привыкли стремиться к объективности, честно описывая художественные достоинства даже человеконенавистнических картин, а иногда щеголяя заигрыванием со злом. Это легитимная позиция, но я решил принять другую. Содержательный анализ фильмов для меня здесь значительно важнее как тайных замыслов авторов (вычленять их — работа исследователей иного толка), так и формального мастерства исполнителей. Я вовсе не стремлюсь говорить о кино по принципу «партийности». В любом случае художественная сила/слабость произведения — его неотъемлемое и первичное для восприятия свойство. Мне лишь показалось необходимым не считать его основополагающим, дополнив эстетическую оценку этической.
Моя цель — попытаться определить, что такое путинизм, по попытаться определить, что такое путинизм, поставив это явление в контекст кинематографа. Не как череда политических решений и действий, предпринятых властями РФ в период с 2000 года и до нашего дня, а как своего рода идеология, набор убеждений и догм, сделавших возможной нынешнюю эволюцию государства и людей.
Многие до сих пор убеждены, что путинизм — это мираж, сложившийся из противоречивых установок и определяемый исключительно стремлением руководителей государства и их ближнего круга к наживе. Однако война, разрушительная для страны, хоть и выгодная для многих представителей политической и экономической элиты, опровергает привычный тезис о власти «жуликов и воров». Противоречия же были свойственны всем бесчеловечным идеологиям ХХ века, от нацизма и сталинизма до маоизма и прочих «измов».
Опровергнуть тезис об аморфности путинизма я пытаюсь на материале кинематографа, массовая природа которого не оставляет сомнений: публика в той или иной степени разделяет ценности, транслируемые с экрана. Этот анализ дает развернутые ответы на вопросы и об «имперском сознании», и о ксенофобии, и о культе насилия, и о патриархальных практиках, и об отношении к правителям и спецслужбам, и о восприятии закона. Когда-то было сказано, что в России не было философии — ее место занимала литература, начиная с Толстого и Достоевского. Что ж, в России XXI века нет последовательной идеологии, если искать ее в писаниях Александра Дугина или колонках Владислава Суркова, но покопаться и найти ее в популярных блокбастерах — задача вполне осуществимая.
Не сомневаюсь, что подобную работу можно было бы провести и на ином материале. Прежде всего на ум приходит журналистика, в особенности телевидение, но также и популярная музыка, и спортивная индустрия, и литература. Верю, рано или поздно люди более компетентные и талантливые, чем я, этим займутся.
4. Кино вне политики?
Одним из важнейших просчетов кинокритики в России мне кажется многолетнее поддержание мифа о возможности (или даже необходимости) отделения искусства — и особенно кино — от политики.
Если даже забыть сомнительную ленинскую цитату о «важнейшем из искусств», невозможно отрицать очевидное: со времен Сталина государство в России видело в кино инструмент влияния и на элиты, и на массы. Коллективизация, репрессии, война, освоение космоса, оттепель и последовавший за ней консервативный поворот, даже горбачевская перестройка находили подробное отражение в кино. Не менее знаковыми были умолчания — например, за одну только неявную отсылку к власовцам «Проверка на дорогах» Алексея Германа легла на полку.
Именно пропагандистская суть кинематографа — и документального, и игрового — диктовала последовательное проведение в жизнь лукавого тезиса о «несовместимости подлинного искусства с политикой». И этот тезис был некритично принят частью интеллигенции. Постепенно миф о политике как вредном и излишнем компоненте кино укрепился в общественном сознании и до сих пор проявляется в регулярной критике «политизированных» решений мировых фестивалей или премии «Оскар».
1990-е годы в России стали временем внезапной свободы и одновременно разрыва многих общественных связей новременно разрыва многих общественных связей — включая раз включая разрушение привычных отношений между кинематографом и зрителем. С конца десятилетия эта связь начала восстанавливаться, и власть поспешила взять кино под свой контроль. Уже в начале путинского правления кинематограф стал приоритетной сферой государственной политики.
Сперва речь шла, скорее, о совпадении культурных процессов с политической эволюцией страны: первые постсоветские блокбастеры («Брат-2», 2000), рост популярности отечественных телесериалов, постепенное формирование легального кинопрокатного рынка, даже победа первого российского режиссера XXI века на престижном всемирном фестивале («Золотой лев» и «Лев будущего» — за лучший дебют для Андрея Звягинцева и его «Возвращения» в Венеции 2003 года) — все это рифмовалось с важными событиями общественной жизни десятилетия. Но после включения в кинопроцесс гигантов телевидения, по совместительству отвечавших за проведение в массы государственной идеологической повестки, развитие киноиндустрии становилось все более управляемым. И это видно по содержанию фильмов: если в «Ночном дозоре» Тимура Бекмамбетова (2004) можно найти лишь отзвуки новой политической доктрины, то «Иронию судьбы. Продолжение» (2007) того же режиссера, и также сделанную под продюсерским руководством Первого канала и Константина Эрнста, можно считать эстетическим манифестом укрепившегося путинского режима.
В 2000-е постепенно сформировалась система государственной поддержки кинематографа и, по сути, управления им. Дело шло к появлению «гибридной» — то есть не всегда сформулированной эксплицитно, основанной на череде молчаливых компромиссов — цензуры.
Эти процессы я пытаюсь рассматривать в книге комплексно, концентрируясь не на злодеяниях конкретных чиновников или погнавшихся за деньгами кинематографистов, а на том, какое сообщение несли массовому зрителю плоды их совместной деятельности — собственно, фильмы.
5. По какому праву?
Думаю, провести подобное исследование возможно лишь тому, кто наблюдал описываемые процессы изнутри, был их частью. В конце 1990-х я работал корреспондентом независимой радиостанции «Эхо Москвы» и с близкого расстояния наблюдал за политическими процессами: митингами, предвыборными кампаниями, разоблачениями и политическими скандалами. В 1999-м короткое время освещал предвыборные поездки Путина по России. Работал на завалах взорванного жилого дома на Каширском шоссе в Москве. В том же году, впервые оказавшись на кинофестивале в Каннах, принял решение посвятить себя кино и покинул политическую журналистику, пространство которой после воцарения Путина начало неуклонно сужаться.
В 2000-х и 2010-х я работал как кинокритик во множестве самых разных изданий — как независимых и открыто оппозиционных, так и имевших государственное финансирование: радиостанциях «Эхо Москвы», «Кино FM», «Вести FM», «Маяк», «Серебряный дождь», газетах «Газета», «Вечерняя Москва», «Московские новости», «Ведомости. Пятница», журналах «Эксперт», The New Times, «Афиша», издании «Медуза». С 2017-го по 2022-й был главным редактором старейшего в Европе журнала о кинематографе «Искусство кино», одновременно с этим еженедельно рассказывал о кинопремьерах — в late-night шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Работал как эксперт в государственном Фонде кино, отвечавшем за распределение денег на съемки фильмов, а позже — в фонде «Кинопрайм», финансировавшем независимый кинематограф из средств Романа Абрамовича. На протяжении многих лет проводил премьеры и обсуждения фильмов в самом большом кинотеатре страны «Каро. Октябрь».
Политическая позиция, выраженная в многочисленных акциях протеста и последовательной борьбе за освобождение украинских политзаключенных, привели к моему отъезду из страны вскоре после вторжения России в Украину. Ранее я был уволен из двух крупнейших государственных СМИ (Первый канал и холдинг ВГТРК, в который входят радиостанции «Вести FM» и «Маяк») за открытую критику спродюсированных ими идеологически ангажированных фильмов.
Работу над книгой я хотел бы, насколько возможно, освободить от личных обид, пристрастий и антипатий. При этом мне хотелось бы не замалчивать своего непосредственного участия в строительстве киноиндустрии при Путине. Поэтому сюда включены, наравне с выдержками из статей коллег, фрагменты моих текстов, опубликованных в разных изданиях за последние двадцать пять лет.
Объем материала огромен, вынужденный выбор фильмов и персон для анализа обусловлен их влиянием на культурный и общественный процесс. Это не полное и не исчерпывающее исследование, а только первый подход к болезненной теме, до сих пор не находившей должного внимания.
Брат и президент
«Наши» — Трагедия «Брата» — Огромная семья «Брата-2» — В отсутствие кинематографа — «Он русский, это многое объясняет» — Спор о «Брате» — Сила музыки — Балабанов и Бодров — Альтернатива Рогожкина — Данила возвращается
«Путин — наш президент. Данила — наш брат», — было написано на рекламных плакатах, висевших в московском метро в первые месяцы 2001 года. Каждый, кто проезжал на эскалаторе мимо этих слоганов, понимал и без фотографий-подсказок, о ком речь.
Владимир Путин — молодой и многообещающий руководитель страны, который из ставленника Ельцина, кандидата таинственной «семьи», за считаные месяцы превратился в настоящего народного любимца, успешно подавляющего «мятеж» в Чечне, проводя «контртеррористическую операцию» (этот эвфемизм — путинское нововведение; 22 года спустя слово «война» в отношении вторжения в Украину окажется почти под полным запретом, пока его не нарушат сам Путин и его пресс-секретарь Песков). Данила Багров — главный герой боевика-блокбастера Алексея Балабанова «Брат-2» (2000), эту роль сыграл Сергей Бодров — младший, самый популярный актер своего поколения. «Наш брат» Данила — наемный убийца, оставляющий за собой горы трупов. В первом «Брате» он дает отпор бандитам-конкурентам и чеченцам, а заодно замечает, что он «евреев как-то не очень». В сиквеле — побеждает американцев, пока его старший брат (тоже профессиональный убийца) одерживает победу над украинцами-«бандеровцами».
Такое соседство на плакатах реального политика Путина и вымышленного героя боевика никого не смущало, казалось закономерным и логичным. Оба очень нравились аудитории, оба были безоговорочно «нашими».
Восстановим контекст. На плакатах было еще двое «наших». Женщина, которую так же хорошо знала вся страна: «Плисецкая — наша легенда». А ниже: «„Комсомольская правда“ — наша газета». Все это было частью рекламной кампании тиражного таблоида, позволявшего себе некоторую критику правящих политиков на протяжении 1990-х, но с первых дней президентства Путина раз и навсегда поддержавшего действующего главу государства. Это было задолго до унификации информационного поля в России, и, к примеру, конкурирующий таблоид — «Московский комсомолец» — не оставлял скептических интонаций в отношении президента еще много лет.
Обе газеты не просто были основаны и получили популярность при СССР — они демонстративно сохранили свои названия, потерявшие смысл для нового поколения читателей, часто не знавших значения слова «комсомол». Характерный штрих, постулирующий механическую преемственность политических и идеологических систем, вроде бы не имевших ничего общего.
С этой точки зрения также важно присутствие на плакатах «Комсомольской правды» Майи Плисецкой — обожаемой всем народом балерины, которой на тот момент исполнилось 76 лет. Руководство газеты гордилось своей дружбой с Плисецкой, которая царственно разрешила использовать ее имя и образ в рекламе издания. Балет в СССР, унаследовав и даже укрепив свою дореволюционную роль, был важным атрибутом власти — попасть в Большой или Кировский, тем более на выступления балерин-звезд, простому смертному было чрезвычайно сложно, а доставка искусства народу в последние десятилетия советской власти производилась через телевизионные записи самых популярных постановок. Плисецкая была живым воплощением бессмертия «чистой» культуры, очищенной от политических пристрастий, — символом веры советского интеллигента.
Трудно не вспомнить о том, что захват власти в умирающем СССР путчистами и переворот, результатами которого стало поражение неудачливой хунты и распад империи, сопровождался отключением населения от теленовостей; вместо них транслировался классический балет. «Лебединое озеро» было применено как массовое оружие деполитизации и умиротворения, почти гипноза. Название балета стало нарицательным, вошло в фольклор.
Таким образом, в той рекламной кампании таблоида было несколько важных смысловых узлов. Наследие СССР и преемственность по отношению к нему, связь поколений, идея чистоты «высокой» культуры и не противоречащий ей «низкий» масскульт, их объединение под зонтичным брендом молодого энергичного президента и популярной — старой, но молодящейся — газеты.
Путин был изображен на плакатах слева, с телефонной трубкой — символом «прямых линий», через которые глава государства будет осуществлять связь с избирателями. Плисецкая — справа, тоже с трубкой: в конце 2000-го она приняла участие в прямой линии с читателями «Комсомольской правды», отвечая на их вопросы и закрепляя тем самым статус народной любимицы. Данила был посередине. Единственный из тройки вымышленный персонаж, единственный без телефона, будто святой дух, рожденный воображаемым диалогом двух реальных (хоть и уже ставших мифом) личностей. Его способом коммуникации с окружающей действительностью был не телефон, а пистолет.
▶▶
Первое знакомство зрителя с Багровым случилось в 1997-м. «Брат» стал первым полнометражным фильмом молодой кинокомпании СТВ, объединившей будущих соратников и единомышленников по независимому кино — Сергея Сельянова (на тот момент режиссера трех художественных фильмов, а с тех пор исключительно продюсера) и Алексея Балабанова (уже известного постановщика арт-хитов «Счастливые дни» по Беккету и «Замок» по Кафке). Коммерческий успех «Брата» — картины, которую вполне можно было отнести к заморскому жанру «боевика», — оказался неожиданностью для обоих. Ведь фильм был малобюджетным, его сняли всего за сто тысяч долларов (по свидетельству оператора Сергея Астахова — за 50). Многие актеры играли в собственной одежде, знаменитый свитер грубой вязки главного героя, в котором тот красовался и на рекламном плакате «Комсомольской правды», был куплен за копейки в секонд-хенде. Даже музыку популярный рокер Вячеслав Бутусов отдал Балабанову бесплатно, в обмен на съемки клипа.
В «Брате» сошлось многое: узнаваемая реальность Петербурга середины 1990-х, свежие шрамы чеченской войны, звериные законы дикой рыночной экономики, всепроникающее насилие, повсеместный криминал — и запрос на нового героя, справедливого и неуязвимого киллера, обладающего обаянием и своеобразной чистотой. Его сыграл Сергей Бодров — младший, начинающий, но уже популярный актер, сын известного советского кинорежиссера Сергея Бодрова («Катала», «СЭР», «Кавказский пленник»), учившийся в МГУ специалист по архитектуре в живописи венецианского Возрождения. В одночасье он стал главной кинозвездой страны.
Герой «Брата», молодой ветеран чеченской войны, возвращается домой в провинцию и сразу ввязывается в конфликт (он едва не срывает съемки видеоклипа). Мать наказывает Даниле отправляться к брату — «большому человеку» в Санкт-Петербурге. Попав в большой город, завороженный и сбитый с толку герой не сразу осознает, что его брат Виктор работает наемным убийцей и известен в бандитских кругах под кличкой Татарин. Виктор берет Данилу под свое крыло: поручает одно дело за другим. Заводя роман с вагоновожатой Светой, слушая музыку новой любимой группы — Nautilus Pompilius, — привыкая к ритму мегаполиса, Данила с успехом осуществляет один заказ за другим и в какой-то момент сам оказывается мишенью бандитов-конкурентов, которых на него наводит старший брат, чтобы спасти свою шкуру.
Для постсоветской культуры «Брат» сыграл ту же роль, которую в 1970-х выполнил в США «Таксист» Мартина Скорсезе: вернувшийся с войны герой-идеалист творит насилие и зло во имя справедливости, как она ему видится. Двойственность центрального персонажа «Брата» подчеркивается его непрекращающимся диалогом с бездомным по прозвищу Немец. Нравственный камертон фильма, тот отказывается брать деньги, заработанные убийством, но и не хочет судить Данилу. Главный герой не только убивает без колебаний, но и воплощает различные фобии, распространившиеся в РФ после официального завершения советского декларативно интернационалистического проекта. Данила с подозрением спрашивает, не еврей ли Немец, клеймит бандитов с Кавказа выражениями, которые звучали неприемлемо даже в контексте жанрового фильма середины 1990-х, презрительно советует подружке «сходить на Пенкина» (имя этого поп-артиста было нарицательным для гея).
Вирусная популярность фильма не вызывала сомнений, хотя общепринятых способов подсчета количества зрителей или сборов не существовало, поскольку основное распространение было пиратским. После выхода «Брата» в обществе и прессе возникла горячая дискуссия — возможно, первая в постсоветское время из-за кино. Насколько Данила выражал политические взгляды автора? До какой степени был слепком эпохи, а в чем — проекцией героя, о котором грезила аудитория? Уклончивый Балабанов односложно отвечал на любые вопросы и отсылал зрителя непосредственно к фильму. В интервью Вите Рамм в «Российской газете» в 2002 году он сказал: «Я ничего не пытаюсь опровергать и никогда не буду этого делать. Мое дело — снимать кино. Дело критиков — критиковать. Мне кажется, что я делаю то, что мне интересно. Специальных раздражителей не придумываю. А если так получается, значит, я куда-то попал».
Позволю себе выдержку из собственной статьи, написанной к 20-летию «Брата»:
«За эффект близости, почти родства, зрителя с персонажем отвечает фильм: главный, если не единственный, за все 1990-е, исчерпывающе описавший и резюмировавший то переломное десятилетие. И, конечно, главный для Балабанова. ⟨…⟩ Жесткий, четкий, лихой, откровенный, наивный, поэтичный, музыкальный, не содержащий ни одного лишнего кадра или слова. ⟨…⟩ Данила Багров родной нам. Его растерянность, простодушие, безжалостность — наши. Он человек, выпавший из контекста, живущий в пору больших перемен, но переставший чувствовать Историю. Он стреляет на поражение потому, что не хочет быть поражен в правах. Но в чем именно его права, знает нетвердо. Ему необходимы близкие, а их нет. Он ищет родных, но не находит. Или находит в них совсем не то, что искал. ⟨…⟩ Данила идет дальше. Не растеряв себя, пытается дойти „до самой сути“. Но не может. С войны — до родного Приозерска, оттуда — до Петербурга, оттуда (мы знаем) до Москвы, потом до самой Америки, откуда, всем ветрам назло, вернется обратно домой. Движение по кругу. Он как герой гумилевского стихотворения, „сильный, злой и веселый“. Как Иванушка из русской сказки, дурачок, но умнее всех.
У Ивана-дурака всегда были старшие братья, отъявленные негодяи. Вот и ответ на вопрос о том, почему Данила так прикипел к брату-предателю. Все равно иного дома, кроме брата, у него нет. Балабанов берется за обжигающе опасную тему „русского“. ⟨…⟩ Данила готов грудью встать на защиту своих и отталкивает чужих, ради этого ему не жалко умереть или убить. Его старания ничем не увенчаются. Наниматели и конкуренты будут стараться его убить, возлюбленная прогонит, брат заложит. „Брат“ — то ли трагедия, то ли комедия одиночества героя, который мечтал о родных, а оказался со своим пистолетом на Лютеранском кладбище в компании немца, да еще режиссера, который его до смерти боится. Интересно, боялся ли Балабанов своего героя?»
▶▶
«Брат» был экспериментом, как и предыдущие картины Балабанова, как и последовавший за ним сложный и нелинейный фильм о природе зла и насилия, об их укорененности в вуайеристской природе кинематографа, «Про уродов и людей» (1998). «Брат-2», то есть продолжение ставшего хитом боевика, — расчетливый коммерческий жест. Те черты, которые привлекали аудиторию в Даниле из первого фильма, были акцентированы, двойственность персонажа и дистанция авторов по отношению к нему сведены к минимуму. Сиквел произвел фурор и совпал с молниеносным взлетом Путина — до недавнего времени руководителя ФСБ, не имевшего публичного имиджа и, казалось, политических амбиций, и вот сперва премьер-министра, затем назначенного Ельциным «преемника» и, наконец, президента РФ, занявшего престол в 2000 году после неожиданной отставки пожилого, непопулярного главы государства.
Мифологический, фольклорный характер персонажа Балабанова подчеркивался его внесоциальностью. В Петербурге он был приезжим, неуверенным в себе и наивным ветераном без денег и связей. Если он и становился убийцей, то поневоле, почти по неведению. В Москве, куда Данила отправляется в финале «Брата», характер его занятий остается не до конца проговоренным. Он заявляет, что собирается поступать в медицинский, называет себя студентом, но больше всего это похоже на небрежное прикрытие. Оказавшись в начале фильма на телевидении, на ток-шоу Ивана Демидова — реальная звезда российского ТВ 1990-х, как и мелькающие в кадре Валдис Пельш и Леонид Якубович, — он знакомится с поп-певицей Ириной Салтыковой, играющей саму себя. Данила слушает только рок, попса ему неинтересна, Ирину он не узнает, но именно этим и очаровывает; у них завязывается роман, и теперь в любой момент он может укрыться в квартире богатой и знаменитой любовницы.
На ток-шоу Демидова Багров попадает в компании двух сослуживцев — Кости Громова и Ильи Сетевого. Первый из них, как выяснилось, заслужил орден Мужества, но так его и не получил, после демобилизации стал охранником в крупном банке. Илья же устроился работать в бывший музей Ленина у Красной площади. Оба охотно признают, что самым крутым из них троих на фронте был Данила (окончательно опровергается легенда о «штабном писаре», так Багров говорил о себе в первом «Брате»). После эфира, уже в бане, Громов рассказывает друзьям о брате-близнеце — талантливом хоккеисте, который эмигрировал в США и нашел там выгодный контракт, но попал в кабалу сначала украинской мафии, а затем американского бизнесмена Ричарда Мэнниса. Когда же Громов заикается об этом российскому партнеру Мэнниса и своему нанимателю — банкиру Белкину, — тот приказывает «разобраться» с охранником, и сослуживца Данилы убивают.
Первым обнаружив тело друга и догадавшись, что произошло, Багров решает мстить. Взяв в сообщники своего товарища, искушенного хакера Илью, и приехавшего в гости с малой родины Виктора-Татарина (под материнским крылом тот перековался из убийцы в милиционера), Багров выходит на бой против могущественного Белкина. А узнав у того информацию о Мэннисе, отправляется в Чикаго, где планирует освободить от долговой зависимости брата-близнеца убитого друга.
Охоту на Данилу открывают подручные Белкина, а затем и украинская мафия в Чикаго (те попадают на Виктора, моментально дающего им отпор). Со временем появляются другие противники: наемники всесильного Мэнниса, сутенеры-афроамериканцы (от них Данила вознамерился спасти русскую секс-работницу Дашу, работающую под псевдонимом Мэрилин) да и вся лицемерная система, то есть американский образ жизни и мысли. Исключения — лишь волшебным образом явившийся герой-помощник, дальнобойщик Бен, и журналистка чикагского телеканала Лиза Джеффри. Впрочем, та случайно сбивает героя на автомобиле и приводит к себе домой (не бескорыстно, а чтобы скрыть аварию) — и затем без сопротивления падает в его объятия.
Вспоминается как будто неуместная, но обретающая характер предсказания фраза Данилы из первого «Брата», где он сулил Америке скорый «кирдык». Возможно, речь шла о его скором пришествии.
Данила в «Брате-2» начисто лишен рефлексии и сомнений. Его конфликт с внешним миром никогда не выливается во внутренний. Об этом и важнейший диалог фильма, который герой заводит со старшим братом у костра в Чикаго, где они варят свежепойманных раков: «В чем сила, брат?» (Виктор предполагает, что в деньгах, поэтому ему так нравится Америка.) А потом продолжает в момент кульминационной встречи с Мэннисом: «В чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней».
За этим следует легкая победа над противником, у которого Данила отбирает нужную сумму и передает хоккеисту Дмитрию Громову. После чего безнаказанно и триумфально возвращается в Россию. То есть подтверждается теоретический тезис: насилие, оно же «сила», становится оправданным, если мотивировано благими и бескорыстными намерениями.
Афоризм «сила в правде» рифмуется с высказыванием Путина о войне с террористами, которых нужно «мочить в сортирах», — нарочитая грубость выбранного выражения и силовые методы оправданы благородными целями. Данила же, оказываясь носителем правды (тождественной силе), получает таким образом право на любые ксенофобские обобщения, выглядевшие спорными и проблемными еще в первом «Брате».
Балабанов в качестве продолжения «Брата» планировал два фильма — один о приключениях Багрова в Москве, другой о путешествии в Штаты. Но в итоге объединил их в один, а третья часть предполагаемой трилогии (ее задумывали и пытались осуществить разные авторы, но не сам Балабанов) так и не появилась на свет. В результате лишь заметнее контраст между двумя «актами» фильма.
В московском Данила действует, по сути, так же, как в первом «Брате»: один против всех, стреляет на поражение, никому не доверяет полностью, с равным подозрением относится к капиталистам и представителям прессы или шоу-бизнеса, открывается только однополчанам и родному брату, которому заранее готов простить все. Центральным антагонистом становится Белкин, сыгранный Сергеем Маковецким — тонким и умным актером, в основном интеллектуального кино. В короткометражной новелле «Трофимъ» того же Балабанова, включенной в коллективный альманах к 100-летию кино «Прибытие поезда», он играл своего рода предшественника Багрова — крестьянина из глубинки, совершившего убийство и приехавшего в Петербург. Зато после «Брата» в ленте «Про уродов и людей» он уже воплощал холодное и безжалостное зло — немца-порнографа Иогана, унижающего и эксплуатирующего беззащитных подростков в дореволюционном Петербурге. Эволюция к образу банкира-кровососа Белкина, одновременно трусливого и беспощадного, была закономерной.
В американской части акценты смещаются. Собственно, переключение происходит еще в Москве. Переодетый Данила настигает Белкина в гимназии, где учится его сын-первоклассник. Мальчик читает со сцены стихотворение, также после «Брата-2» вошедшее в фольклор, хотя споры по поводу его авторства ведутся до сих пор (то ли детский поэт из Симферополя Владимир Орлов, то ли юкагирский поэт Николай Курилов и его переводчик Михаил Яснов) — наверняка известен лишь год появления, 1987-й: возможно, ключевой год перестройки, когда стало ясно, что грядет распад СССР.
В представлениях Данилы ностальгия по Советскому Союзу никак не противоречит национальному осознанию себя русским: не раз в кадр попадает его паспорт, не поменянный после краха империи, — на нем значится аббревиатура СССР.
Стихотворение заслуживает быть процитированным целиком.
Я узнал, что у меняЕсть огромная семья:И тропинка, и лесок,В поле каждый колосокРечка, небо голубое —Это все мое, родное.Это Родина моя,Всех люблю на свете я!
Прямолинейность и простодушие стихов завораживает Данилу, и тот решает пощадить убийцу своего друга. Впоследствии Белкин продолжает вредить Багрову и пытается его «убрать», но в финале фильма банкир не несет никакой кары — о нем попросту забывают. Да, он злодей, и при этом часть ли он той самой «огромной семьи» из стихотворения? Недаром его отчество так отчетливо акцентируется в фильме — «Валентин Эдгарович» (в СССР, где родился Белкин, с высокой вероятностью это сигнализировало о еврейских — но, возможно, и немецких — корнях). Антисемитизм, иногда завуалированный, не редкость в фильмах Балабанова. Позже, когда Данила оказывается на Брайтон-Бич, ему продают подержанную машину за завышенную сумму в 500 долларов, и продавец заверяет его, грассируя: «Мы, русские, не обманываем друг друга». Автомобиль ломается через сотню километров, вынуждая героя путешествовать дальше автостопом.
Но если к евреям главный герой относится с недоверием, то настоящими врагами, заслуживающими не просто наказания, а смерти, оказываются украинские бандиты. «Москаль менi не земляк», — презрительно бросает один из них, непривлекательный мордоворот, Виктору, который позже с наслаждением убивает того во время перестрелки в общественном туалете, добавляя фразу, также вошедшую в поговорки: «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите». Позже Виктор устраивает побоище в ресторане «Львов», за что его пытаются арестовать американские полицейские. Виктор не возражает — для него это легальный способ остаться в Америке, где ему нравится.
А для Данилы самыми главными противниками становятся именно американцы, что парадоксально — вновь, как и в первом фильме, но на иных основаниях — противопоставляет его старшему брату-цинику. Разумеется, и среди американцев встречаются хорошие люди, но это исключение, призванное подтвердить правило, сформулированное Дашей: «Здесь вообще все просто так, кроме денег». Плохие американцы в «Брате-2» — это не только Мэннис (малоизвестный артист Гари Хьюстон), начисто лишенный индивидуальности и харизмы, в отличие от Белкина. Это наркозависимые, бездомные, сутенеры, беспричинно избивающие героя, а еще полицейские, вершащие произвол — только более лицемерно, чем в России («долбаные ниггеры», говорит один из них, выпуская после ареста Данилу и как бы выражая ему солидарность). Это и упыри, чье любимое развлечение — просмотр снафф-видео с изнасилованиями, заказанными Мэннисом в России.
Общая картина настолько удручающе ужасна, что превосходит пропагандистские штампы из значительно более аккуратных советских фильмов брежневской поры о загнивающем капитализме. Она легализует и открытый расизм со стороны главных героев (афроамериканца они называют «черным, как сволочь»), и неизбирательную жестокость в ночном клубе, где Данила расстреливает всех на своем пути.
Когда русский таксист в Нью-Йорке начинает привычно ругать свою бывшую страну, Данила отвечает ему миролюбиво: «Зря вы так. Я родину люблю». «Сдал Горбачев твою родину американцам, а теперь твоя родина две войны и Крым просрала», — парирует тот. Что ж, Данила за тем и явился на эту землю, чтобы исправить все (или хотя бы некоторые) ошибки. Здесь опять маячит тень Путина, каким он чудился своему избирателю, и это за полтора десятилетия до аннексии Крыма.
В первом «Брате» Данила много высказывался о других нациях, в «Брате-2» все чаще звучит слово «русский». Даже в диалоге с подпольным торговцем оружием по кличке Фашист, у которого все в свастиках и прочей нацистской символике, Багров уточняет: «Немец?» — и когда тот обиженно отвечает: «Русский!» — Данила с облегчением покупает у Фашиста автомат и гранаты. Не случайно упоминание войны встречается в фильме неоднократно. Данила вернулся с фронта, но противостояние идет вечно, оно никогда не заканчивается. Только в бою «свое, родное» с особенной отчетливостью отличаешь от чужого и враждебного. «Русские на войне своих не бросают», — объясняет Данила Даше. «Русские не сдаются», — вторит ему Виктор. «Вы гангстеры?» — спрашивает перепуганная американка Дашу, увидев оружие. «Нет, мы русские», — уверенно отвечает та.
Название «Брат» в первом фильме Балабанова обладало чудесной двойственностью. Оно отсылало к криминальным «браткам», к мифическому братству народов («не брат ты мне» — формула, употребленная не случайно по отношению к «нерусскому») и разным представлениям о родстве у прагматичного Виктора и искреннего Данилы.
В «Брате-2» возник дополнительный сюжет о близнецах — Косте и Дмитрии (обе роли сыграл Александр Дьяченко, действительно учившийся и живший в США и в самом деле игравший в хоккей). Один из них, оставшийся в России, отдает за брата жизнь, а второй, уже зараженный американской бациллой, отказывается помогать Даниле, не выражает никаких чувств при известии о гибели брата и, в итоге получив сумку с деньгами, интересуется, заплатят ли ему еще и проценты. Даже родной брат-близнец перестает быть таковым, переехав в Штаты. Вероятно, поэтому развязка и хеппи-энд фильма — не победа над Мэннисом или Белкиным, а сам факт возвращения Данилы вместе с Дашей домой. Бывшая секс-работница показывает средний палец пограничнику, когда тот предупреждает ее о просроченной американской визе и о том, что ей нельзя будет вернуться обратно в США. В самолете Даша произносит еще одну крылатую фразу, обращаясь к стюарду: «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим».
▶▶
Данила Багров — не только идеальная персонификация русского человека, не только обобщенный фольклорный герой. Это еще и воплощение отечественного кинематографа — униженного, растерянного, одинокого, чувствующего свою подчиненность Америке и мечтающего о независимости от нее.
В «Брате-2» Данила Багров врет американскому пограничнику при въезде в страну, что якобы приехал на Нью-Йоркский кинофестиваль. А первый «Брат» начинался с волшебного появления героя в кадре на съемках видеоклипа — так обозначались границы кинематографа и вторгавшейся в него реальности. Балабанов, чей стиль был рожден постмодерном, повторял прием из «Трофима», где незадачливый герой-убийца портил кадр российского «Прибытия поезда». Роль архетипического режиссера там исполнил Алексей Герман, учитель Балабанова, также сыгравший эпизодическую — но ключевую — роль недоступного и всесильного Кламма в «Замке». Балабанов вступал в диалог с культовой фигурой «полочного» советского кино, позже — именно после «Брата» — отрекшейся от ученика. А в «Брате-2» упоминал важнейший фильм советского кино — «Чапаева» братьев Васильевых, оснащая Виктора пулеметом Максима из музея Ленина (который чудом оказывался в рабочем состоянии). Быть может, уместно здесь вспомнить о том, что в первой самостоятельной режиссерской работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка» именно «Чапаев» становился точкой сборки, объединяя ребенка и взрослого, интеллигента и рабочего.
Балабанов для постсоветского сознания — фигура, сопоставимая с весом Тарковского для сознания советского. Он первый по-настоящему значимый и одновременно народный отечественный режиссер 1990-х. И тем не менее его одержимость Америкой не случайна: в стилистическом отношении кинематограф Балабанова больше обязан американской жанровой традиции и авторскому кино США в диапазоне от Скорсезе до Тарантино (это влияние режиссер охотно признавал), чем советской классике.
Важно хотя бы в общих чертах представлять себе место кинематографа в общественном восприятии России 1990-х, частью которой были авторы и актеры обоих «Братьев».
Для СССР кино было самым доступным и массовым из развлечений, а также самым любимым. При этом от большинства фильмов — по преимуществу европейских и американских, — которыми жил остальной мир, публика была отрезана. С перестройкой исчез железный занавес, ушла цензура. На короткий период в несколько лет, когда запрещенные фильмы снимали с полки и выпускали в прокат, ситуация кардинально изменилась. Зрители запоем смотрели невиданное и неслыханное — так называемую чернуху, бесцензурные советские фильмы. «Маленькая Вера» и «Интердевочка», перестроечные шедевры Абдрашитова и Муратовой, запрещенные до того ленты Климова, Германа и Аскольдова, впервые легально выпущенный на экраны Сокуров…
Однако это длилось недолго. Закончился СССР, моментально разрушилась советская система проката. Кинотеатры начали массово закрываться, в них открывались мебельные и автомобильные салоны. Страна довольно быстро потеряла интерес к отечественному кинематографу. Повсюду продавались дешевые видеомагнитофоны и штабеля кассет VHS, на которых была записана как классика мирового кино — лучшие из лучших, голливудские и европейские, независимые и мейнстримные фильмы, — так и новинки, только-только вышедшие на мировые экраны и уже переснятые на видео пиратами. У постсоветского населения не было никаких представлений об авторских правах и легальном показе.
Россия 1990-х одновременно была самой киноманской страной в мире и самой безразличной к любым иерархиям и правилам, принятым в любом кинематографе какой бы то ни было страны. Неслучайно Тарантино, чей вкус сформировался в кинотеатрах бесцензурной поры, на просмотрах B-movies вперемешку с шедеврами, а потом в демократичных видеосалонах, стал любимым режиссером россиян. И воспринят был исключительно как певец циничного криминального жанра (его предшественников из Нового Голливуда или Сэма Пекинпу знали и смотрели немногочисленные синефилы, широкой публике были ближе боевики с Чаком Норрисом и Брюсом Ли).
Российское кино в эту странную пору выживало благодаря не прокату, которого почти не было, а, прежде всего, телевидению — пагубная зависимость от него, проявившая себя в полной мере уже в 2000-х и 2010-х, сформировалась именно тогда — и фестивалю «Кинотавр», где у режиссеров и продюсеров была уникальная возможность показывать свои фильмы на большом экране профессиональной аудитории (а в некоторых случаях даже получить признание в виде наград).
Другими бесценными институциями, помогавшими отечественному кинематографу сохраниться, были кинопремия «Ника» — возникший еще на излете СССР «наш „Оскар“», и новейшее поколение свободных от цензуры кинокритиков, писавших как в ежедневных и еженедельных газетах и журналах, так и в профессиональных киноизданиях. Важнейшими из них были московское «Искусство кино», работавшее аж с 1931-го, но обновившее стиль и язык после прихода в начале 1990-х нового главреда, социолога Даниила Дондурея, и питерский «Сеанс», основанный в рушившемся на глазах СССР Любовью Аркус.
▶▶
Почти все — критики массовые и интеллектуальные, кинопремии и фестивали, — приняли Балабанова как нового мессию, спасителя российского кино из пучины местечкового самолюбования. Даже критикуя методы Данилы Багрова (или принимая творчество Балабанова за исключением «Братьев»), они признавали за режиссером уникальную способность заинтересовать аудиторию, избалованную импортным — прежде всего американским — кино. О том, как Балабанову это удалось, невозможно сказать в обзорной статье или даже книге, но вкратце можно резюмировать: дистанцировавшись от прямой ностальгии по СССР и научившись у Америки профессии, на содержательном уровне он призывал к независимости от иностранных образцов и воспевал субъектность русского героя. Неудивительно, что герой этот оказался не только борцом с капитализмом, но и убежденным националистом.
Рассказывать любому иностранцу, не живущему в России, о специфике русского национализма и ксенофобии всегда мучительно сложно. Начиная с первой же проблемы — языковой: семантической разницы между словами «русский» и «российский», ощутимой почти только в русском языке.
Одним из комических мемов в отношении Ельцина — первого президента России — было слово «россияне», произносимое, в подражание главе государства, специальным хриплым голосом, с неким торможением. Будто речь идет не о настоящем народе, а о каком-то искусственном конструкте, который «на самом деле» разделен, расслоен внутри на этнически русских и всех остальных. Согласно распространенному националистическому клише, в России поражены в правах именно русские и восстановление их в правах — первая задача патриота. А раз власть (как Ельцин, так и Путин) эту задачу не решает и даже не формулирует открыто, то она — антинародная.
Первым явным обращением самого Путина к националистической риторике были его политические действия 2014 года — аннексия Крыма, которую оправдывали защитой прав населявших полуостров этнических русских, и военная агрессия в Донбассе, которую объясняли точно так же. Русские — значит, наши. За этим стоит не закон, а та самая мистическая и необоримая «правда» (она же сила) из «Брата-2».
Апроприировать понятие «русский» с государственнических, центристских, миролюбиво-интернационалистических позиций кинематографисты пытались с середины 1990-х, еще при Ельцине. А точнее, в переломный момент выборов 1996 года, когда президент чуть не проиграл Зюганову, который мог утащить страну обратно в советское прошлое. Тогда, в 1995–1997 годах, на самом популярном телеканале страны ОРТ была выпущена первая в истории новой России социальная реклама под говорящим названием «Русский проект».
Ролики длиной в одну-три минуты в задушевном, иногда чуть приправленном иронией тоне показывали жителей большой страны, объединенных единым пространством, интересами, духом. Актеры — сплошные звезды, причем как советские, известные всему Союзу (Никита Михалков, Олег Табаков, Олег Ефремов, Галина Волчек, Нонна Мордюкова, Вахтанг Кикабидзе, Зиновий Гердт), так и новые, совсем молодые (Владимир Машков, Евгений Стычкин, Нонна Гришаева, Валерий Гаркалин, Евгений Сидихин, Алексей Кравченко). Участвовали и легендарные музыканты — Алла Пугачева и Юрий Шевчук. Продюсером выступил глава ОРТ (впоследствии — Первого канала) Константин Эрнст, впервые тогда проявивший свои кинематографические амбиции, режиссером проекта — Денис Евстигнеев.
Сюжеты маленьких новелл немудрящие. Девушка на роликах на рассвете едет в МГУ, прицепившись зонтиком к пустому троллейбусу с пожилым водителем. Комбайнер и водитель грузовика размышляют, успеют ли убрать зерно до дождя. Ветеран в метро вспоминает молодость. Пенсионеры обсуждают в больнице сравнительные достоинства водки, пива и вина. Семейная пара забирает из детдома приемную дочь… Россия представлена вселенским домом, где каждый найдет себе место. Недаром два космонавта (Михалков и Машков), играя в города и глядя на родную планету из безвоздушной черноты, видят на земном шаре только одну страну — Россию. А потом, приземлившись в казахской степи, соглашаются с приютившим их в юрте пастухом: «Дома лучше».
Впрочем, умиротворенный тон был слегка омрачен возвращавшейся темой войны в Чечне — на тот момент настолько не табуированной, что продюсеры считали уместным вставить ее в подобную рекламу. Две немолодые путейщицы с тоской во взглядах провожают идущий на фронт эшелон с солдатами (ролик назывался «Спаси и сохрани»). Часовой с Красной площади, трогательно общавшийся с матерью в одном ролике, в другом дрожит от ужаса в танке, перед первой атакой. «А ты кричи, легче будет!» — подбадривает его командир. Часового играет Кравченко, чей дебют в антивоенном «Иди и смотри» Элема Климова когда-то всколыхнул всю страну. Командира — Владимир Гостюхин, игравший в не менее культовом и столь же антивоенном «Восхождении» Ларисы Шепитько. Несколько лет спустя он сыграет роль отца главного героя в «Войне» Балабанова.
Слоганы, которыми сопровождались ролики, были запрограммированы на то, чтобы стать «вирусными», уйти в народ: «Мама, не плачь», «Мы помним», «Дай вам бог здоровья», «Мы вас любим», «Берегите любовь», «Верь в себя». Интересно, что лозунг «Это мой город» позже присвоили участники массовых оппозиционных акций 2005–2012 годов, безуспешно пытавшиеся отбить пространство у перегородивших его омоновцев и росгвардейцев. Но это, пожалуй, единственное, что сохранилось в народной памяти от «народного» «Русского проекта».
«Википедия» дает перечень крылатых фраз, ни одна из которых сегодня не вызовет живой реакции даже у людей, заставших 1995 год. Проблема не в том, был ли проект талантливым и ярким — для своего времени был, это бесспорно; просто слишком уж умозрительными были его идеи, слишком дисгармонировали с пока не сформулированной в массовом поле национальной идентичностью, которую оказалось невозможно ввести в общественное сознание, «спустить сверху».
Интересен еще один фильм-парадокс, почти совпавший с «Братом-2». Речь о самой дорогой и масштабной на тот момент постановке Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» (1998). После триумфа на премии «Оскар» в 1995-м — михалковские «Утомленные солнцем» стали первым постсоветским фильмом, удостоенным премии американской Киноакадемии, — режиссер замахнулся на проект по замыслу голливудский, о царской России. Нарядный и высокобюджетный блокбастер о любви и судьбе открывал Каннский фестиваль 1999 года, но не смог ни принести прибыль в прокате, ни повторить оскаровский, фестивальный успех предшественника (более интересного Европе и США, поскольку затрагивал тему сталинских репрессий). Но и в России «Сибирского цирюльника» восприняли скорее как заморскую диковинку. Как шутка или издевка в этом контексте читался рекламный слоган фильма — вообще-то, оправданная сценарием цитата, выглядевшая размашистым обобщением: «Он русский. Это многое объясняет».
Не было очевидно, что голливудский по стилистике фильм Михалкова — русский, как и его герой (кстати, наполовину американец). Русским — кровной родней, братом — был Данила Багров. Вот его слова действительно стали крылатыми и ушли в народ.
▶▶
Яростные споры критиков и кинематографистов начались еще в момент выхода «Брата» и усилились к премьере «Брата-2». Они были важным фактором перевоплощения дилогии Балабанова из успешного коммерческого проекта в значимый социальный феномен.
Главред «Искусства кино» Даниил Дондурей отчетливо выступил против первого же «Брата»:
«…фильм, лишенный в своей основе больших амбиций, вдруг стал чуть ли не манифестом нашего новейшего кинематографа (ситуация нынешней идейной и эстетической пустыни не оправдывает явно завышенных оценок). Манифестом, который встречен многими изданиями с восторгом. Декабрьский „Кино Парк“: персонаж Сергея Бодрова — младшего „признали новым национальным героем… Произошло то, чего так ждали от кино: имя главного героя стало нарицательным. Появилось „лицо“ у целой армии молодых людей, пытающихся найти себя в большом городе“. И от этого, честно говоря, тошно».
Дондурей оказался в меньшинстве. Даже самые авторитетные критики нашли в картине и ее герое множество достоинств, отмахнувшись от опасностей:
«„Брат“ Алексея Балабанова для меня… не „новое“ кино, не „старое“ кино, а художественное. И потому — бесстрашное. Понятно, что это работа человека с подлинным кинематографическим чутьем» (Евгений Марголит в «Искусстве кино»).
«Балабанову как никому другому удалось показать мир криминала, точно и со вкусом сочетая в образах своих незаконопослушных героев почти фольклорную стилизацию и суровую правду жизни» (Станислав Ф. Ростоцкий, Premiere).
«Все вопли о жестокости „Брата“, о вызывающей ненаказуемости зла звучат на документальном фоне отечественного криминального эпоса лицемерно. Идею воспитательной роли искусства приходится пока оставить Голливуду» (Елена Плахова, «Сеанс»).
«Балабанов увидел в нынешней жизни нечто не виденное прежде потому, что не встал ни на одну из точек зрения, так или иначе приличных теме. Традиционно-осуждающую (убивать плохо!). Покорно оправдательную (убиваю, а что делать?). И даже модно-куражистую (убивать, так грамотно). И что с того, что брат оказался Иудой, а Слава Бутусов так никогда и не узнает, что в квартире, этажом выше которой он выпивал, в тот момент резали людей… Такая нынче жизнь» (Сергей Добротворский, «Коммерсантъ»).
Критик (и будущий кинорежиссер) Михаил Брашинский в самом модном издании рубежа столетий «Афиша» объявляет «Брата-2» новой нормой: «Алексей Балабанов снимает так, как только и нужно снимать: будто мы и правда живем в здоровой стране, выпускающей по 150 фильмов в год. Хотя это, конечно, не так и вокруг него чисто поле, а на нем — чуть ли не крест спасителя, реагировать на „Брата-2“ следует адекватно: без истерики, спокойно, как на нормальное кино, какого должно быть много. Не всякий же раз Америке кирдык показывать. Иногда и кукиш — тоже приятно».
«В отличие от сотен российских картин последнего десятилетия, „Брат-2“ утверждает: можно жить, нужно жить. В том числе в первую очередь — здесь в России» (Игорь Манцов, «Искусство кино»).
Все тот же Даниил Дондурей на страницах «Искусство кино» поставил «Брату-2» диагноз определенный и однозначный: «Зерно беспрецедентного успеха „Брата-2“ в том, что в обличье комедии это настоящий идеологический проект! ⟨…⟩ „Особый путь России“, „Запад нас погубит“ — тема старинная. Вневозрастная. Но — внимание! — впервые в отечественном кино вроде бы между делом высказываются расистские идеи».
▶▶
«Брат» начинается с музыки, на которую «залипает» Данила. Визуализированная музыка — это и есть кинематограф Балабанова, для которого так важен ритм, повторяемость паттернов, броскость панчлайнов-«припевов». Режиссер вырос в кругу музыкантов, Свердловский рок-клуб был одним из самых влиятельных в стране. Первые короткометражки Балабанова, снятые еще при СССР — «Раньше было другое время» (1987), «У меня нет друга, или One step beyond» (1988), «Настя и Егор» (1989), — насыщены музыкой рокеров из Свердловска. Самая популярная из рок-групп того движения, получившая широкую известность в масштабе страны, — Nautilus Pompilius, выстрелившая в канун перестройки и официально прекратившая существование в год выхода «Брата», в 1997-м. Фильм будто бы стал для нее надгробным памятником.
Яркий имидж солиста Вячеслава Бутусова, выразительный звук — особенно на излете советской эпохи, когда группа вдохновлялась образцами британского new wave и еще не перешла к более скупому гитарному звуку 1990-х, а главное, полные злободневных метафор тексты Ильи Кормильцева обеспечили славу Nautilus Pompilius и успех их концертным выступлениям. Их песни были связаны и с несколькими знаковыми фильмами. В «Зеркале для героя» (1987) Владимира Хотиненко, герои которого попадали прямиком из современности в сталинскую эпоху, звучали «Казанова» и «Прощальное письмо», а для популярного клипа на песню «Взгляд с экрана» были использованы кадры культовой «Маленькой Веры» (1988) Василия Пичула. Мрачный эротизм песни идеально соответствовал эстетике фильма, ставшего воплощением термина «чернуха» и впервые показавшего на советском экране половой акт.
В «Брате» не только звучит музыка Nautilus Pompilius — там снимаются музыканты, в том числе сам Бутусов. Он же автор оригинального саундтрека к «Брату-2» — рубленых, не только ро ́ковых, но и роковых по звучанию гитарных риффов. Ко второму фильму продюсеры решили привлечь целую плеяду рок-музыкантов нового поколения. Этот замысел вполне отвечал идее фильма, выходящей из безнадежного пике первого «Брата» в сторону идеалистических надежд на новую Россию. Ситуация с отечественной рок- и поп-сценой была схожа с тем, что происходило в кино: на протяжении 1990-х молодые слушатели запоем впитывали модную западную музыку, с недоверием, а иногда и высокомерием относясь к стремительно устаревавшим исполнителям традиционного русского рока, растерявшим за десятилетие свободного бесцензурного творчества протестный запал. «Брат-2» стал музыкальным манифестом, представившим новые имена и голоса.
«Би-2», «Сплин», «Танцы Минус», Земфира, Чичерина, «Океан Ельзи», «Смысловые галлюцинации» — новые звезды, рядом с которыми сосуществовали уже популярные на тот момент «Крематорий», «Агата Кристи», «АукцЫон». Некоторые песни словно описывали конкретных персонажей: «Вечно молодой, вечно пьяный» из песни «Смысловых галлюцинаций» — Виктор, а «Гни свою линию» «Сплина», конечно же, Данила. Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук — поклонником его музыки в фильме называет себя Багров — отказался курировать саундтрек и давать свои песни: он определил «Брата» как «чудовищное, ужасное, отвратительное националистическое культовое кино». Продюсером саундтрека в итоге стал журналист, музыкальный критик Михаил Козырев.
В диалоге с журналистом Сергеем Минаевым Козырев признавался через двадцать лет после выхода фильма на страницах журнала Esquire: «Мне стало не по себе от Франкенштейна, которого мы создали. ⟨…⟩ Не стыдно — потому что это хорошая работа. Наверное, я не горжусь тем фактом, что в моей биографии есть этот проект. Мне кажется, этот фильм умножил зло в этом мире. И последствия оказались куда более тяжелыми и разрушительными, чем я мог представить».
Сегодня Михаил Козырев с семьей живет и работает в Амстердаме, куда переехала редакция «Дождя» — когда-то к нему был благосклонен президент Дмитрий Медведев, а с начала вторжения в Украину в 2022-м этот независимый телеканал в России запрещен.
Судьба раскидала участников музыкальной части проекта по разные стороны баррикад, и не всегда в переносном смысле. Например, Юлия Чичерина рьяно поддержала вторжение, а «Би-2» и Земфира не только высказались против войны, но и попали в список «иностранных агентов» с фактическим запретом на концерты в России. Близок к тому, чтобы оказаться под запретом, и лидер «Сплина» Александр Васильев — всего лишь за то, что вслух поддержал уехавших из страны музыкантов (сам он остался и продолжил выступать). Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» ныне — автор песен «За Донбасс!» и «На Берлин», а украинская группа «Океан Ельзи» после 2014-го прервала любые контакты с Россией и российской аудиторией, она безостановочно выступает перед воюющими украинцами.
Финальной точкой в «Брате-2» становится легендарное «Прощальное письмо», более известное в народе по строчке «Гудбай, Америка!». В фильме песню поет детский хор, на титрах подхватывает Бутусов. Ностальгическая мелодия, в которой лирический герой прощался со страной, «где он не был никогда» (подобно героям Кафки и Достоевского, для которых Америка являлась влекущей абстракцией), была переосмыслена как разрыв отношений государств. Вячеслав Бутусов, в последние годы радикально ударившийся в православие — последний созданный им саундтрек написан для вышедшего в разгар войны фильма «Святой архипелаг», — уверен, что войну задумали и организовали украинцы при деятельной помощи американцев.
▶▶
Узнать, как бы отнеслись к войне и репрессиям Алексей Балабанов и Сергей Бодров — младший, невозможно. Оба ушли из жизни еще до ужесточения российской политики, связанной с массовыми протестами и аннексией Крыма. Это позволяет сторонникам войны и их противникам безапелляционно приписывать обоих то к одному, то к другому лагерю.
Балабанов начинал карьеру чуть ли не как сюрреалист, с юмором и визионерской свободой превращавший тексты великих европейских модернистов в воображаемую реальность, иногда близкую документальной («Счастливые дни»), иногда полностью вымышленную, близкую то ли живописи Брейгеля, то ли фэнтези («Замок»). Другой сферой его интереса было раннее российское кино и его симбиотическая связь с революцией и Гражданской войной — напрямую или косвенно эти темы затрагивались в «Трофиме», «Про уродов и людей», «Морфии» по прозе Булгакова.
Дилогия «Брат» развернула Балабанова к современной ему реальности, от которой он с начала XXI века отступал редко. По мнению многих критиков, своеобразной третьей частью трилогии стал его фильм «Война» (2002) — последний из тех, в которых принял участие Бодров-младший. В этой картине новый главный герой, сыгранный дебютантом Алексеем Чадовым и получивший окончательно сказочное имя Иван, обожжен войной и вне войны себя не мыслит, хотя и пытается скрыть это за маской прагматика. Чеченские боевики показаны садистами. Попавшие в их руки англичане — бессильными идеалистами. Лишь сыгранный Бодровым-младшим раненый капитан Медведев воплощает, уже без экивоков, соль земли русской, ту самую «правду», в которой «сила».
Позволю себе процитировать собственный текст 2002 года, опубликованный в журнале «Искусство кино»:
«„Война“ — картина этапная, она свидетельствует о двух важнейших фактах. Первый: чеченская война, как в свое время та война, которую Америка вела во Вьетнаме, обязана быть сюжетом для книг, песен и фильмов, это важный и болезненный опыт, о котором нельзя молчать. Второй: время „Кавказского пленника“ ушло навсегда, примирение уже невозможно. Поэтому Балабанов так настаивает на слове „война“ и отказывается признавать, что дела на Кавказе „идут на лад“. Это как минимум честно, и если уж „Войну“ клеймят за идеологическую программу, то „Останкино“, ласково рапортующее о редких „вспышках экстремизма“, достойно презрения в высшей степени. Общество договорилось о системе эвфемизмов, скандальные заявления ему ни к чему. Поэтому „Война“ раздражает. Конечно, у Балабанова своя точка зрения, и представленная им картина не может претендовать на полную объективность. Разумеется, больно видеть, как тому, кто обозвал боевика „черножопым“, режут горло. Или то, что самым слабым из пленников, обреченным на мучения и смерть, оказывается еврейский бизнесмен. Или то, что все чеченцы представлены в „Войне“ бандитами и убийцами, потенциальными или состоявшимися. И иерархическая лестница национальностей, на которой высшую ступень занимают самые сильные, но и самые великодушные — русские. Даже убийство главного злодея автор поручает потерявшему самоконтроль англичанину — наш-то, подразумевается, за просто так не убьет».
Продолжая искать новые формы, Балабанов снял по чужим сценариям криминальную комедию «Жмурки» (2005) и мелодраму «Мне не больно» (2006), после чего вернулся к радикализму ранних картин в мрачной ретропритче о распаде СССР «Груз 200» (2007), в которой многие сегодня видят предсказание войны с Украиной. Впрочем, широкой популярности не получил ни один из этих фильмов, как и два прощальных, полных открытых автореференций, «Кочегар» (2010) и «Я тоже хочу» (2012), где режиссер снялся в роли себя самого. Между прочим, роль музыканта там по замыслу должен был играть Вячеслав Бутусов, но его место в итоге занял один из лидеров «АукцЫона» Олег Гаркуша. 18 мая 2013 года Балабанов скоропостижно умер от острой сердечной недостаточности. Ему было 55 лет.
Сергей Бодров ушел из жизни еще раньше. 20 сентября 2002 года в возрасте 30 лет он погиб вместе со съемочной группой фильма «Связной», который снимал как режиссер, во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Его тело не нашли.
Путь Бодрова-младшего к славе был стремительным. После маленьких ролей в фильмах своего отца он запомнился центральной ролью в его же «Кавказском пленнике» (1996). Его незаурядной харизмой пользовались и иностранные режиссеры, Режис Варнье и Павел Павликовский. Бодров не довольствовался кинематографом: работал как журналист, вел на канале ОРТ популярную программу «Взгляд», а потом шоу «Последний герой». За первым режиссерским опытом — фильмом «Сестры» (2001), где Бодров вновь сыграл Данилу Багрова в эпизоде, последовал «Связной», съемки которого обернулись трагедией.
Бодров-младший никогда не идентифицировал себя с самым известным своим персонажем, но, если можно так сказать, принимал на себя ответственность за него. Это особенно хорошо слышно в его репликах во время круглого стола с критиками «Искусства кино»:
«Наверное, какая-то опасность в фильмах о „Брате“ есть, сложно с этим не согласиться, но „Брат“ не более опасен, чем выступление какой-нибудь странной музыкальной группы. Почему у молодых есть склонность к такому герою, не знаю. Но мне кажется, что существует жажда, такое кислородное голодание не от отсутствия силы, жестокости, обреза под курткой, а от отсутствия некоего слова закона, справедливости, что ли, пусть превратно понятой, оболганной, исковерканной, но тем не менее — восстанавливающей утраченное равновесие в мире. ⟨…⟩
Данила пробует первым и пытается добиться справедливости. Прав он или не прав — рассудит время. Наверное, потом, когда справедливость рано или поздно восторжествует, все забудут про пистолет, но справедливость будут любить. А какой из прекрасных мировых порядков устанавливался без пистолета?»
Балабанов в меньшей степени, Бодров в большей отвечали романтическим архетипам — один был «проклятым поэтом» кинематографа, намеренно укрепившим этот образ прощальной картиной (его персонаж умирает перед камерой), а второй — героем без кавычек.
▶▶
Образ Балабанова как ключевого российского кинематографиста рубежа 1990–2000-х, нашедшего оптимальную форму для описания национального характера, устоялся в сознании зрителей. На его фоне померк и отошел на второй план другой автор, чье имя в середине 1990-х звучало громче. С удивлением вспомним о том, что они не только жили и работали в одном городе, но также снимали фильмы на одной студии, которую до сих пор возглавляет их товарищ Сергей Сельянов, — СТВ. Речь об Александре Рогожкине.
Его «Особенности национальной охоты» в 1995 году произвели фурор и взяли главные награды, включая Гран-при, на «Кинотавре» в Сочи, а год спустя, в 1996-м, одержали такую же убедительную победу на премии «Ника». Оценить размах популярности фильма, показанного в октябре 1996-го на ОРТ, сегодня довольно трудно, но он определенно получил культовый статус в самых широких кругах: его цитировали, пародировали, копировали. Его персонажи-маски появлялись на телевидении, а сам режиссер снял еще три полнометражных сиквела: «Особенности национальной рыбалки» (1998), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) и «Особенности национальной политики» (2003). Название не вызывает сомнений: Рогожкин, как и Балабанов, искал — а судя по успеху, нашел — формулу национальной идентичности. Поражает лишь то, насколько она была противоположна балабановской. В этом, вероятно, важнейшая причина того, что автор, четверть века назад известный каждому, сегодня полузабыт, а молодому поколению зрителей вовсе не знаком.
Процитирую собственную статью, написанную после смерти Рогожкина:
«Рогожкин фактически пересобрал русский национальный характер, причем весьма оригинально. Его герои — егерь-буддист Кузьмич (Виктор Бычков), невозмутимый генерал Михалыч (Алексей Булдаков) и наивный финн Райво (Вилле Хаапасало), чья оптика простодушного иностранца и вводила зрителя в этот своеобразный мир, — представляли Россию как страну бесконечного алкогольного трипа. Страну нескончаемой галлюцинации, по сути, подменяющей собой и охоту, и рыбалку,да и любое другое реальное действие. Абсурдистский юмор „Особенностей…“ до сих пор не до конца осмыслен и исследован в контексте богатой традиции — от „Охотников на привале“ Василия Перова до „Москвы — Петушков“ Венедикта Ерофеева».
Невероятная особенность цикла Рогожкина — в том, что его герои, главный из которых еще и генерал, декларативно и последовательно миролюбивы. По меньшей мере в первом, заявочном фильме они не способны убить ни зверя, ни даже рыбу. К этому, впрочем, и не стремятся: их цель — бесконечно выпивать, иногда закусывая, будто бы этот сакральный самодостаточный ритуал способен совершить некое чудо (необъяснимых деталей в картинах предостаточно), явив образ новой, иной России. В ней нет не только насилия, но и никакой потребности в нем. Отменены границы между прошлым и настоящим — финн Райво, а вместе с ним и зрители присутствуют на галлюцинаторной охоте XIX века, откуда-то из времен Тургенева и Толстого. Нет и географических границ: европеец становится побратимом Кузьмича и Михалыча.
Причем это отнюдь не дань моде своего времени, а последовательная позиция автора. Рогожкин, в отличие от Балабанова, свои первые полнометражные фильмы снимал еще в Советском Союзе (он чуть старше). Слава пришла к нему в перестроечном 1989-м, когда его фильм «Караул» стал событием фестиваля в Карловых Варах. Это картина о дедовщине в армии, пронизывающем общество насилии, о том, как и в чем солдат подобен заключенному в тюрьме (невольная параллель с «Зоной» Сергея Довлатова, которую Рогожкин тогда еще, вероятнее всего, не читал). Впереди были антиутопическая «Третья планета» (1991), фантасмагорическая и отчетливо антисоветская «Жизнь с идиотом» (1993) по Виктору Ерофееву, а главное — самый жесткий в истории фильм о кровожадности советских спецслужб и карательных органов «Чекист» (1992). Описав ужас тоталитарной системы, Рогожкин противопоставил рухнувшей империи свой утопический пацифизм в «Особенностях национальной охоты».
Интересно, что после сенсационного успеха «Особенностей…» Рогожкин не отказался от кинематографа более радикального, менее зрительского, сняв «Блокпост» (1998) о войне в Чечне. Этот фильм удивительным образом сочетает мягкий юмор и гуманизм с художественной бескомпромиссностью. А еще в нем появляется постоянный актер и сквозной персонаж Рогожкина — Алексей Булдаков (в «Карауле» он играл просто старшего офицера, зато в «Особенностях…» — уже генерала и неизменного хозяина застолья).
После наступления нового тысячелетия режиссер сделал свой лучший фильм, настоящий манифест межнационального взаимопонимания, — «Кукушку», вышедшую одновременно с балабановской «Войной» в 2002-м. Ее действие происходит во время Второй мировой. Два заклятых врага и изгоя в собственных лагерях, финн и русский (Вилле Хаапасало и Виктор Бычков, знакомые по «Особенностям…»), оказываются в доме саамской шаманки (Анни-Кристина Юусо). Они вынуждены искать общий язык, исключающий насилие. Две антивоенные картины о двух важнейших и самых травматичных для российской идентичности войнах.
Последние, четвертые «Особенности…» были политическими. Они не понравились критикам, разочаровали публику, вообще пришлись не ко двору. Шутки на тему политики казались уже неуместными, миролюбие Рогожкина — тем более. Еще одна деталь: генерал Иволгин (бессменный Булдаков) здесь шел на выборы, на него даже совершали покушение. Вся страна знала, что у «Михалыча» Иволгина есть прототип, об этом рассказывал и Булдаков: речь шла о генерале Александре Лебеде. В 1990-х он стал легендой, перейдя во время путча на сторону Бориса Ельцина. Последовательный сторонник мирного решения любых конфликтов, Лебедь сыграл важную роль в завершении первой чеченской войны в 1996-м (за что многие считали его предателем). В апреле 2002 года он, будучи на тот момент губернатором Красноярского края, погиб в возрасте 52 лет в катастрофе вертолета Ми-8. «Особенности национальной политики» год спустя не могли показаться смешными уже никому.
Лебедь — один из немногих политиков, в которых видели реальную альтернативу Владимиру Путину на выборах. Его смерть некоторые до сих пор считают не несчастным случаем, а удавшимся покушением. Обращает на себя внимание и высказывание Лебедя после взрывов жилых домов 1999 года — он открыто выразил подозрение, что за терактами могут стоять государственные спецслужбы. Но даже если отбросить конспирологию, нужно признать: похоронив Лебедя, Россия простилась с альтернативным путем политического развития. Точно так же, как Рогожкин мог стать (и на протяжении некоторого времени был) альтернативой Балабанову, Иволгин — антитезой Даниле Багрову.
После завершения «Особенностей…» Рогожкин снял два больших фильма — военную драму «Перегон» (2006, участвовала в фестивале в Карловых Варах, успеха не имела) и патриотическо-спортивную комедию «Игра» (2008), предвосхитившую новый коммерческий жанр отечественного кино, но не замеченную в прокате. После самоубийства в 2011-м жены, монтажера Юлии Румянцевой, он почти не снимал. 23 октября 2021 года Александр Рогожкин умер. Ему было 72 года. Он оставил множество нереализованных проектов.
Памяти Рогожкина журнал «Искусство кино» посвятил специальный антивоенный номер, где анализировались его лучшие фильмы. На обложке — солдат, смотрящий в кадр за мгновение до гибели, из финала «Блокпоста». Номер вышел в начале 2022 года, через несколько дней после вторжения российской армии в Украину.
▶▶
В феврале 2022-го голливудские киностудии дружно покинули российский рынок. Кинотеатры стояли пустые, их менеджмент был в растерянности. Потом страну стремительно накрыла волна повторных показов и прокатов, в том числе старого кино. Именно тогда на экраны снова вышли «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова. Проект был очень успешен. Обе картины собрали внушительную для общеизвестных, доступных в интернете фильмов аудиторию: около 300 тысяч человек посмотрели «Брата», около 150 тысяч — «Брата-2».
Данила Багров снова безоговорочно стал «нашим братом», как на давно забытой рекламе. В концертных залах устраивались фестивали с музыкой групп из «Брата» и «Брата-2» (разумеется, только тех, кто не высказался против войны). С октября 2022 года в Петербурге, в модном пространстве «Севкабель Порт», открылась и проработала до марта 2023 года (сроки не раз продлевали) «выставка-путешествие» «Балабанов», вызвавшая восторженные отклики. Одновременно с этим основательница журнала «Сеанс», ставшая к этому моменту и режиссером-документалистом, Любовь Аркус доделала свой давний проект — фильм о ее друге «Балабанов. Колокольня. Реквием», где киноведческое эссе переходит в интимную хронику последних месяцев жизни главного героя. Эти события заставили критиков и журналистов вновь думать и писать о феномене Балабанова, в том числе защищая его от обвинений в подготовке (пусть невольной) случившейся трагедии. Статья Зинаиды Пронченко в «Коммерсантъ Weekend» так и называлась: «Защита Балабанова».
Продюсером фильма Аркус оказался бывший создатель «Русского проекта» и нынешний глава Первого канала — главной кузницы военной пропаганды Путина — Константин Эрнст. Вместе они представляли «Балабанова. Колокольню. Реквием» на открытии нового кинофестиваля «Зимний» в московском кинотеатре «Художественный». Название «Зимний» ненавязчиво отсылает к главному до тех пор российскому кинофестивалю «Кинотавр» в Сочи, где когда-то гремели все фильмы Балабанова, включая «Брата» и «Брата-2»: премьеры там проводились в Зимнем театре. К зиме 2022–2023 годов, впрочем, «Кинотавр» уже прекратил свое существование: его руководитель и продюсер, уроженец Киева Александр Роднянский, резко осудил вторжение России в Украину и покинул страну.
Балабанов оставался знаковым феноменом российского кино на протяжении четверти века, да и после смерти тоже. Бессмертие, о котором говорилось в его прощальном фильме «Я тоже хочу», было даровано если не ему самому, то его образам и героям. Какие-то из них идеально описали новую эпоху, начавшуюся в России вместе с войной. На это можно закрывать глаза, можно стыдиться этого, можно и гордиться — все зависит от взгляда.
Петербургский философ и член редколлегии журнала «Сеанс» Александр Секацкий, к примеру, описал историческую роль Балабанова и его дилогии на страницах правоконсервативной газеты «Завтра» следующим образом: «Данила Багров и дилогия Балабанова в целом стали точкой кристаллизации новой государственности. Я иногда думаю, что когда-нибудь, осмыслив исторический опыт и оценив ту страшную угрозу, которую удалось отвести, мои соотечественники поставят памятник Алексею Балабанову и Сергею Бодрову — где-нибудь неподалеку от памятника Минину и Пожарскому» («О помешательстве государств и народов», 21 марта 2023 года).