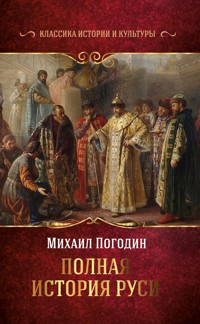
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Классика истории и культуры
- Sprache: Russisch
Михаил Петрович Погодин — один из первых историков, положив- ших начало новой русской историографии. Его всегда отличал интерес к истории Домонгольской Руси и критическое отношение к историче- ским источникам. Именно Погодин открыл и ввел в научный оборот многие древние летописи и документы. В этой книге собраны важней- шие труды Погодина, посвященные Древней Руси, не потерявшие своей научной ценности до сих пор.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Михаил Погодин Полная история Руси
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2020
Том первый
Введение. Древняя русская история
Предание, донесшееся из глубины веков до наших летописцев, указывает племенам словенским первоначальное место поселения в Европе на среднем и нижнем Дунае, – Дунае, который до сих пор еще слышится у нас повсюду в народных песнях. «По мнозех временех (по потопе), говорит древнейший летописец наш, Нестор, живший в XI столетии, сели суть Словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска».
Отсюда, вследствие естественного размножения и других побудительных обстоятельств, выселялись они по временам, – задолго до Рождества Христова, – и заняли, наконец, почти всю среднюю Европу.
Наша страна получила себе обитателей по случаю нашествия с запада кельтов или волохов, которые, растревожив словен в их пригретом гнезде, заставили многих искать себе новые места поселения. Они уже тогда стояли на известной степени образования, знакомые с земледелием и первоначальными искусствами, говорили богатым и значительно развитым языком, имели понятия и верования о Боге и жизни посмертной, принесенные еще из прародины своей, Индии, с которой до сих пор обнаруживают родство.
Одни из словен, племена ляшские, поселились к северо-западу от Дуная; другие, наши, к северо-востоку.
Передовым из последних были собственно словене. Спасаясь от нашествия, они должны были спешно и усиленно прокладывать себе дорогу, шли-шли и достигли, наконец, озера Ильмеря,[1] потеснив обитавшую в этих местах чудь. Только здесь смогли они остановиться и построить себе город – Новгород.
Соплеменники, следовавшие по их стопам, также остановились по пути, когда натиск с юга утих, где кому случилось: на Двине, Припяти, Соже – кривичи, дреговичи.
Другие, еще прежде повернувшие направо, расселились по Днестру, Бугу, Днепру и их притокам, – тиверцы, хорваты, северяне, поляне.
Все они не составляли сплошного народонаселения, разделяясь между собою реками, лесами, горами, болотами и степями.
Поляне, по сказанию летописца, отличались тихим и кротким нравом. Брак издавна совершался между ними по взаимному согласию. Семейные отношения отличались скромностью. Древляне же имели обычаи дикие, подобно зверям, с которыми жили в своих дремучих лесах, питались всякой нечистотой, в распрях и ссорах, и убивали друг друга; брака полюбовного не знали, но уводили или похищали себе жен. Так же жили радимичи, вятичи, северяне. Они сходились на игрища и плясанья между селами и там выбирали себе девиц, с кем которая сговорится. Многоженство было у них в обыкновении. Над покойниками совершалась тризна, насыпалась высокая кладь, на которой и сжигался труп. Сожженные кости собирались в небольшой сосуд и устанавливались на столбах при дорогах. Так поступали вятичи, кривичи и другие вплоть до XII столетия. Мыться и париться в банях составляло древнейший обычай, которому удивился еще, как говорит предание, Св. Апостол Андрей.
Вскоре они познакомились со своими приморскими соседями: это были родственные племена, переселившиеся прежде них с Дуная, а далее норманны, известные у нас под именем варягов, самый деятельный и удалой народ в Европе того времени, которые уже с V века хозяйничали на всех морях и имели сообщения по всем берегам: в Британии, Галлии, Германии, Италии, наконец, ближайшие, финны, так называемая ими чудь.
Смышленые пришельцы разузнали, где в основном расположены естественные ресурсы, в которых они наиболее имели нужду, и что могут они предлагать в замену перми, булгарам, хозарам, югре. Им удалось даже впоследствии стать твердой ногой на самых выгодных для себя в этом отношении местах, откуда они могли распространять свою власть над соседними областями. Так возникли новые поселения, оказавшиеся вскоре для них необходимыми – Изборск, Торжок, Белозерск, Ростов, Муром, Бежецк, Волок Ламский.
В торговле новгородской приняли вскоре участие и норманны, нигде не упускавшие случая заводить свои связи и расселявшиеся повсеместно; они распространили новгородскую торговлю еще далее, до самого устья Волги, куда, с противоположной стороны, через Каспийское море, из внутренней Азии, проникло с той же целью другое – бодрое, живое и, вместе, образованное племя того времени – арабы.
Арабы привозили в устье Волги к хозарам пряности, южные плоды, шерстяные ткани, драгоценные камни, которые до сих пор удерживают у нас свои восточные наименования: изумруд, яхонт, бирюзу, жемчуг… Чудские племена доставляли меха, рыбу, хлеб, металлы, юфть. Из низовых южных славянских поселений доставлялся хлеб, мед, воск. Из Греции – паволоки, золото, вино. Норманны торговали мечами франкской работы, янтарем, пухом, невольниками.
Очень рано между всеми этими народами началась взаимная мена, из которой мало-помалу, по мере распространения сообщений, образовалась правильная обширная торговля с определенными путями.
Смышленые словене умели воспользоваться своим выгодным положением, на перепутье норманнов в Грецию и к финским племенам, передавали товары из рук в руки и богатели. Город их стал, в некотором смысле, перевалочным местом на Севере. Слава о Новгороде распространилась по всему Варяжскому (Балтийскому) поморью, а исландские саги наполнились сказаниями о богатстве и могуществе великого Гольмгарда.
Точно такое же значение получил на юге Киев, принадлежавший другому славянскому племени, полянам (предкам, кажется, нынешних великороссиян).
В 859 году какая-то ватага норманнов, называвшихся у нас варягами, приплыла по Варяжскому морю в устье Невы, рассыпалась по сторонам и обложила данью встреченные ею племена, славянские и финские.
Но владычество норманнов продолжалось не долго: племена вскоре восстали, одно за другим, потому ли, что были выведены из терпения насилием пришельцев, или потому, что увидели возможность легко справиться с ними и не захотели нести напрасных убытков.
Как бы то ни было, хозяева прогнали незваных гостей туда, откуда они приходили, «за море», и начали по-прежнему «владеть сами о себе», но вскоре перессорились между собою, «встал род на род», полилась кровь, и усобице не видать было конца, а норманны, с часу на час, могли воротиться с новыми, еще большими силами, отмстить жестоко за полученное оскорбление и наложить иго тяжелее прежнего!
Тогда, среди общей смуты, пришла в голову кому-то из воевавших благая мысль, чтобы прекратить кровопролитие: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву».
Совет пришелся по душе. Но где искать князя столь сильного, чтобы он мог дома держать свое имя грозно, а в нужном случае защитить мирные племена от внешних врагов?
Здравый смысл, народный толк, указал им норманнов, которые господствовали по всему взморью, ближнему и дальнему, ходили беспрестанно на все четыре стороны, селились везде, где пригревало солнце, и готовы были служить кому угодно, лишь было бы из чего, – норманнов, о которых грозная слава распространялась всюду.
Словене, с подчиненными им, более или менее, кривичами, чудью, весью и мерею, пошли «за море», к одному норманнскому племени, по какой-то причине им более знакомому, которое жило, кажется, в углу Варяжского моря, в соседстве и совокупности с родственными нам племенами, и «называлось Русью, как другие племена назывались Свеями, Англянами, Готами и Мурманами».
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: придите княжить и володеть нами», сказали им послы без всяких околичностей и условий. Вещие слова, определившие дальнейший ход нашей Истории.
Нашлись охотники согласиться на вызов: три брата, князья Рюрик, Синеус и Трувор. Они поднялись со всем своим племенем, «пояша по собе всю Русь», и пришли к нам в 862 году.
Великий князь Рюрик с братьями. 862–879
Старший из братьев, Рюрик, сел в Ладоге, откуда, при истоке Невы, всегда удобнее было встретить норманнов, которые обыкновенно приставали к этой гавани, известной у них под именем Альдейгоборга, Синеус поселился у веси на Белоозере, а Трувор в Изборске у кривичей.
Через два года меньшие братья умерли: старший, Рюрик, унаследовал их волости и переселился со своей дружиной в Новгород, главный город словен, уже сильный, богатый торговлей, владевший обширной волостью и имевший свои гражданские учреждения, – «и прозвались Новогородцы от них (от пришедшей руси), Русскою землею, а прежде были Словене».
Двое из спутников Рюрика, Аскольд и Дир, не князья и не бояре, выпросились у него с родом своим в Константинополь, намереваясь, без сомнения, служить в числе императорских телохранителей или секироносцев.
Отпущенные, они не попали, однако же, куда собирались: пронесясь в легких ладьях по Днепру мимо Смоленска и Любеча, показавшихся им слишком крепкими, они остановились под крутой горой, на которой, в сени тополей и черешен, виднелся городок…
Осмотревшись и порасспрашивав, они узнали, что городок называется Киевом, что строители его, три брата, Кий, Щек и Хорив, с сестрою Лыбедью, умерли, а жители платят дань родам их, хозарам.
Искателям приключений понравилось место при широкой реке, текущей прямо в любезное для них море, на перепутье с Севера, из родины, в Грецию – так тепло здесь и привольно, всего растет, кажется, вдоволь. А жители смирны, воинов нет, городок не крепок. Не остаться ли здесь?
Подумано, сделано. Аскольд и Дир остались, а поляне, самое тихое из племен славянских, приняли их к себе без прекословия.
Разнеслась молва об удаче и выгодном поселении. Из Новгорода вскоре прибыло к ним несколько мужей, ушедших от Рюрика. После могли останавливаться у них проезжие земляки, а другие приплыть даже нарочно. Число товарищей увеличивалось беспрестанно: они утвердились и начали владеть Полянской землей, как владели их единоплеменники на Севере, и, подобно им, воевать с соседями. Они вздумали идти на Константинополь, о котором на их родине рассказывались чудеса. Миклагард, Миклагард, великий город! Чего там нет! Какие сокровища везде собраны! Сколько золота и серебра, паволок! Что за вина, что за яства! А защита плохая. Греческие воины изнежены до того, что имя их у родственных варангов употребляется в насмешку.
Славяне принялись строить лодки, которые выдалбливались из цельного дерева и потому назывались у греков однодеревками, а после у казаков душегубками. И через два года пустилось по Днепру сборное ополчение из двухсот судов… Вот открылось раздольное море, и вдали показался перед ними желанный Константинополь.
Там никто не ожидал гостей. Быстро и смело вошла русь «внутрь суду», в пристань, высадились на берег, разделили жребием предместья и принялись убивать и грабить.
Долго после сохранялось между греками воспоминание об этом внезапном нашествии руси. Походом киевских витязей Аскольда и Дира имя руси огласилось в мире: «начаша прозывати Русска земля; о сем бо уведахом, говорит летописец, яко при сем Цари (Михаиле) приходиша Русь на Царьград, яко же пишется в летописаньи Гречьстем».
Патриарх Фотий свидетельствует об их обращении в грамоте, писанной им к восточным епископам в 865 году: «Россы, славные жестокостию, победители народов соседственных и в гордости своей дерзнувшие воевать с Империею Римскою, оставили суеверие, исповедуют Христа, и суть друзья наши, быв еще недавно злейшими врагами. Они уже приняли от нас Епископа и священника, имея живое усердие к богослужению Христианскому».
Таким образом, в одно время с началом государства в Новгороде зародилась у нас и христианская вера в Киеве. В отличие от народов западных, получивших ее из Рима, мы приняли ее из Константинополя, от греков, и именно в то время, когда церковь вышла там с победой из борьбы со всеми лжеучителями и успела отпраздновать торжество православия, на основании семи вселенских Соборов. Сообщил ее нам патриарх, который первый восстал и против суемудрия западного, и против папского властолюбия.
А что происходило, между тем, на Севере? Неужели Рюрик оставался, сложа руки, в Новгороде?
Может быть, он принимал участие в норманнских походах по Балтийскому и Немецкому морям, в Германии, Франции и Англии; может быть, распространял пределы новгородского владычества на востоке и юге, к стороне Уральских гор; может быть, в продолжение семнадцати лет он успел и там, и здесь. Киевская летопись молчит об этих действиях, сообщая, под 879 годом, лишь известие о его кончине, перед которой он отдал на руки родственнику своему Олегу только что родившегося сына Игоря, ему же передал и свое княжение.
Великий князь Олег. 879–912
Олег, молодой, пылкий, деятельный, недолго усидел на месте. Вскоре он снарядился в поход. Малолетнего Игоря он взял с собой, словно заранее решил не возвращаться в Новгород.
На Днепре Олег занял Смоленск, город вольных кривичей, и посадил там мужа своего; плывя далее вниз, взял Любеч, где посадил также своего мужа. Наконец, представился ему Киев, на который он зарился, может быть, издали и прежде. Надо взять и его!
Смирные поляне поддались спокойно новому пришельцу, как прежде Аскольду и Диру, и «седе Олег княжа в Киеве».
Он так полюбил доставшийся ему город, что решил прекратить свой неопределенный путь и водвориться здесь навсегда. «Се буди мати градом Русским», сказал Олег. «Беша у него Варязи и Словени и прочи, прозвашася Русью».
Имя Руси сделалось тогда принадлежностью Киева, откуда начало расширяться далее и далее, не найдя еще своих пределов…
Чтобы утвердить свою власть, Олег начал ставить города в новом княжестве, как ставил их Рюрик со своими мужами на севере. Потом определил он дани словен, кривичей и мери, то есть разделил землю на участки (вероятно, тысячи) и назначил, куда какой участок должен тянуть, к какому городу, и сколько представлять дани. Сверх того указал он, чтобы новгородцы, оставшиеся без защиты, платили заморским варягам ежегодно триста гривен, или полтораста фунтов серебра, «мира деля».
Устроив таким образом домашние дела, Олег, истый норманн, начал свои военные поиски. Всякий год, лишь только вскрывался Днепр, отправлялся он на добычу в быстрых ладьях, по рекам, в него впадающим справа и слева, и распространял пределы дани, заставляя мирные и тихие племена славянские, одно за другим, признавать свою власть.
Так далеко успел Олег в короткое время разнести славу своего оружия, столько племен посчастливилось ему подчинить себе, но он не был доволен этими мирными завоеваниями. Чего же ему хотелось более?
Царьград – вот куда устремлялись издавна жадные взоры и задушевные мысли всех варягов, вот о каком походе думал и Олег.
Долго собирался киевский князь с силами, и уже в 906 году, следовательно, через двадцать с лишком лет по водворении своем в Киеве, оставив там Игоря, «иде Олег на Грекы, пояже множество Варяг, и Словен, и Чуди, и Кривичи, и Мерю, и Поляны, и Северу, и Древляны, и Радимичи, и Хорбаты, и Дулебы, и Тиверцы».
Олег счастливо преодолел все препятствия и появился под стенами Константинополя. Воины его огнем и мечом рассыпались по окрестностям, жгли церкви, разбивали палаты, а пленных рубили, расстреливали, бросали в море. По свидетельству византийских летописцев, устрашенные греки обратились с просьбою о мире к русскому князю.
Счастье благоприятствовало смелому Олегу, и он достиг своей цели: заставил трепетать Константинополь; заставил императоров униженно просить мира, исполнить все его желания и платить ему дань; получил богатую добычу для себя, для своих мужей, воинов, и для всего своего племени, вытребовал важнейшие преимущества для Руси на будущее время при всех сношениях ее с Грецией, государственных и торговых.
Последние годы своей жизни Олег провел в покое: «и живяше Олег мир имея ко всем странам, княжа в Киеве».
Олегу, кажется, бездетному, наследовал сын Рюрика Игорь.
Великий князь Игорь.912–945
Подданные племена попытались было отложиться (913), привязанные слабыми узами к Киеву, но Игорь сходил на древлян (914) и возложил на них дань больше Олеговой.
Новый князь должен был отличиться каким-нибудь необыкновенным подвигом. Игорь вздумал идти в дальнюю сторону, куда не ходили еще варяги, на Восток, познакомиться с другим морем, еще не известным, Каспийским, и проведать, что обретается на его берегах.
Игорева Русь поплыла на пятистах судах по Днепру в Черное море, из Черного моря повернули они не направо, как обыкновенно делали в походах на Грецию, а налево, вверх, в Азовское море, через Босфор Киммерийский, потом поднялись вверх по Дону до пограничной крепости Саркела или Белой Вежи, построенной для хозаров греческими мастерами. От Саркела послали они просить кагана, чтобы он позволил им пройти через владения и рекой Волгой спуститься в море Каспийское.
Восстенали все народы, обитавшие около этого моря, говорит современный арабский писатель Массуди, и возопили о помощи: с незапамятных времен не видывали они никакого врага, который нападал бы на них с моря, где доселе плавали только суда купцов и рыболовов.
Награбясь досыта, русь отправилась обратно к устью Волги и послала вперед к кагану хозарскому условленную часть добычи.
Мусульмане, жившие в стране Хозарской, узнав по слухам о неистовствах руси, обратились к кагану: «Пзволь нам, говорили они, отомстить этому племени. Они вторглись в земли братьев наших мусульман, пролили кровь их, пленили жен и детей».
Царь не в силах был удержать раздраженное население и только предупредил русь о враждебных намерениях мусульман. Эти последние, собрав войско, потянулись вниз по реке в поисках неприятеля. Многие христиане из Итиля к ним присоединились.
Завидев их, русь сошла с судов и выстроилась в боевой порядок на берегу. Бой длился три дня, и, наконец, мусульмане победили. Русь была побита мечом, другие, спасаясь на суда, утонули. Силы Киевской Руси расстроились совершенно вследствие этого поражения, и вот почему, вероятно, летопись наша молчит двадцать пять лет о ее действиях, извещая только о краткой войне с печенегами.
В 941 году Игорь собрал силы для большого похода. На этот раз целью его была Греция. Они повернули к азиатским берегам Черного моря, где еще не бывали прежде их удалые товарищи – опустошили Вифинию, Пафлагонию, Никодимию, Понт и пожгли все берега Босфорские. Греки снарядили несколько хеландий (кораблей) и пустили их в море с греческим огнем, заменявшим в то время порох. Игорь был уверен в победе, но надежда его обманула. Ужасный греческий огонь, пускаемый трубами, произвел смятение и совершенное расстройство в русском ополчении. Объятые ужасом при виде своих лодок, внезапно загоравшихся, русские воины бросались в воду, напрасно боролись с волнами и тонули. Не осталось другого спасения, кроме бегства.
Игорь не пал духом. Ему хотелось во что бы то ни стало загладить стыд своих поражений и отомстить грекам. Он послал за море звать своих родичей норманнов в поход на Грецию.
Корсуняне, поселенцы греческие на берегу Черного моря, известили Константинополь: «се идут Русь без числа корабль».
Император послал первых своих бояр к Игорю сказать ему: «Не ходи на нас, но возьми дань, что брал Олег, мы придадим к ней и еще». Игорь взял у греков золото, серебро, паволоки, на себя и на всех воинов, и возвратился в Киев.
В следующем году императоры константинопольские и великий князь русский обменялись между собою посольствами и заключили договор на условиях, менее выгодных для руси, чем Олеговы.
Кончину свою Игорь нашел в следующем году (943), у соседнего с Киевом племени древлян, с которых хотел он взять лишнюю дань.
Великий князь Святослав. 945–972
Древляне, убив Игоря, испугались последствий. Во избежание мести, они решили звать вдову его Ольгу в супружество за князя своего Мала, но напрасно: мужественная княгиня русская наказала их жестоко, судя по преданию, которое сохранилось в народе о ее действиях.
Потом пошла Ольга по всей Деревской земле с сыном и с дружиною, устанавливая свои порядки.
На следующий год ходила она к Новгороду и определила дани по Мсте и Луге. Становища и угодья ее были известны до позднейшего времени, как и по Днепру, и по Десне.
В 955 году Ольга отправилась в Константинополь с многочисленной пышной свитой – увидеть город, получить дары, принять там святое крещение, приобщаясь вере, издавна уже известной в Киеве между ее единоплеменниками и поразившей, видно, ее пылкое сердце.
Это случилось в царствование императора Константина Багрянородного, который сам описал для нас ее пребывание в своей столице со многими любопытными подробностями.
Святое крещение приняла Ольга от патриарха Полиевкта, а восприемником от купели был сам император Константин. Имя наречено ей Елена, в память древней царицы, матери равноапостольного царя Константина.
Собравшись в обратный путь, Ольга пришла к патриарху, прося у него благословения: «Люди мои поганы, и сын мой также. Помолись о мне, владыко, чтоб Бог сохранил меня от всякого зла». Патриарх старался убедить ее в помощи Божией и милости и отпустил в отечество.
Великая княгиня Ольга, приняв к сердцу новое учение, обещавшее ей вечные радости, пожелала, разумеется, больше всего сделать участником их своего милого, единственного сына и начала тотчас убеждать его, чтобы он принял святое крещение, но Святослав не хотел ее и слушать. Закон мира, терпения, воздержания был противен Святославу так же, как и буйным его товарищам, которые видели в нем осуждение всего, чем мила и дорога им была жизнь, и потому презирали всегда тех, кто оставлял веру отцов своих.
Тяжело было матери, горячо любившей сына, видеть, как мало он обращал внимания на ее увещания и просьбы, но делать было нечего.
А он, возросший и возмужавший, позабыл вовсе о ее наставлениях: он думал только о битвах и тотчас начал «собирать вои многи и храбры, легко ходя, аки пардуст», посылая сказать племенам, на кого собирался: «Хочу на вас ити».
С какой же страны начать ему свои бранные поиски? Куда идти? Святослав решил идти на восток, к Волге, туда, где так ужасно погибли Игоревы дружины и где тлевшие кости их давно призывали себе мстителей.
Сначала плыл он Окою, из Оки переправился в Волгу и напал на Булгар с удалой своей дружиной, взял, ограбил и разорил так, что этот знаменитый город долго не мог подняться и достичь прежней степени величия.
Поплыв ниже, Святослав покорил буртасов, страна которых простиралась от левого берега Волги далеко в глубь Азии.
За буртасами встретилось с ним войско козарское, вышедшее с самим каганом защищать пределы своей земли. Но могло ли оно остановить поток гордого победителя! Произошло сражение, и хозары были разбиты наголову.
Святослав благополучно достиг устья Волги, где процветал издавна по обеим берегам ее знаменитый Итиль, еще более богатый, чем Булгар, столица хозарских каганов, славная на всем Востоке. Город был уже пуст. Жители разбежались. Святослав взял город и нашел здесь еще более добычи, чем в Булгаре.
И вот перед ними необозримое Хвалынское море. Русь пустилась по Каспийскому морю и дня через четыре или пять высадилась уже на берегах Дагестана. Там красовался Семендер (между Итилем и Дербентом, близ Тарху), со своими мечетями, синагогами, церквями, окруженный садами и виноградниками, в которых считалось до сорока тысяч лоз. Он разделил участь Булгара и Итиля.
Святослав у подножия Кавказа! Он победил здесь ясов, обитавших в пределах Грузии, и касогов, соседних с Азовским морем.
Отсюда Святослав мог идти вверх по Дону; он взял хозарскую крепость на берегах этой реки, верстах в семидесяти от устья, Саркел или Белую Вежу, построенную для хозаров греческими мастерами от набегов печенежских, перед тем лет за сто; поднимаясь еще выше, напал на вятичей, обложил их данью и вернулся в Киев по старой дороге, которой вышел оттуда.
Страны, прилежащие к Черному и Азовскому морю, с трепетом услышали новое имя, грозившее затмить все прежние. Калокир, сын херсонского начальника, известил о нем, вероятно, императора Никифора Фоку и получил поручение пригласить могучего русского витязя на помощь империи.
Не успел отдохнуть Святослав в Киеве, как явилось к нему это посольство. Греки просили Святослава наказать болгар, навлекших на себя гнев Никифора.
Святослава зовут на войну! Он ли откажется? Какой пир для него веселее войны? А греки предлагают ему еще тридцать пудов золота, кроме будущей добычи.
Собралось многочисленное войско, до шестидесяти тысяч человек, по свидетельству греков, и легкие ладьи понеслись по знакомому Днепровскому пути, объявились скоро на Черном море и вошли в устье Дуная.
Болгары не выдержали стремительного удара, смешались, бежали и вынуждены были запереться в Доростоле (что ныне Силистрия). Святослав пустился по Дунаю, взял семьдесят городов и обосновался в Переяславце.
Тогда-то хитрый грек, который находился беспрестанно при нем, вкрался ему в душу и стал почти братом, сообщил ему тайные свои намерения, внушенные, вероятно, его же доблестью, которой, на его глазах, ничто не могло противиться. Калокир хотел овладеть византийским престолом, переходившим тогда из рук в руки, и за помощь Святослава обещал оставить ему навсегда Болгарию, а дань платить больше прежней.
Искатель приключений, Святослав рад был случаю пуститься на новые опасности, помериться с другими сильнейшими противниками и получить в свои руки распоряжение престолом империи. Условие заключено.
Весть о нем должна была скоро дойти до Константинополя: император поздно увидел свою ошибку, пригласив такого помощника, который стал стократ опаснее врага.
Никифор решился примириться и с прежними своими противниками, болгарами, на которых сам вызывал Святослава, надеясь теперь, их посредством, затруднить сколько-нибудь его и Калокировы действия.
Болгары, со своей стороны, рады были примириться и обещали помощь, лишь бы император отвратил секиру, висевшую над их головами. Секира была отвращена, хоть только на время, но вследствие домашних обстоятельств Святославовых.
Печенеги видели, как он мимо них прошел по Днепру со всеми своими воинами, и вознамерились воспользоваться его отсутствием и ограбить его богатую столицу. Остановить их было некому. Печенеги подошли под самый Киев, где великая княгиня Ольга вынуждена была запереться с молодыми своими внучатами. Неприятель обступил город со всех сторон. Несколько воинов собрались было в лодках, из-за Днепра, и остановились у другого берега, но не могли ничего предпринять в пользу осажденных. Киевляне долго томились в осаде; голод и жажда уже начали грозить им гибелью, и они решились сдаться, если еще день не получат помощи. Один смелый отрок взялся сообщить это решение заднепровской дружине и счастливо выполнил опасное поручение, пройдя неприятельский стан с вопросом на печенежском языке о своем пропавшем коне. Печенеги поздно увидели ошибку, когда он поплыл по Днепру; пущенные стрелы его не достали.
«Надо спасать княгиню и княжичей во что бы то ни стало, сказал воевода Претич, услышав о намерении киевлян, а не то Святослав нас не простит. Переправимся в лодках, достанем их как-нибудь из города и умчим на нашу сторону».
Поутру переплыли они Днепр, стремительно бросились на гору, закричали, затрубили в трубы. Печенеги в недоумении дали им путь, киевляне откликнулись. Ольга с внуками и людьми вышла навстречу своим избавителям и благополучно достигла ладей.
Киевляне, избавившись от угрожавшей им опасности, послали тотчас гонца к Святославу звать его домой: «Ты ищешь, князь, и блюдешь чужую землю, а о своей не думаешь; нас едва не взяли печенеги с матерью и детьми твоими».
«То слышав Святослав, говорит летописец, вборьзе вседе на коне с дружиною своею, и приде Киеву, целова матерь свою и дети своя».
Раздраженный, он не мог оставить печенегов без наказания, собрал войско и прогнал дерзких хищников далеко в поле. Но недолго прожил он в отечестве: соскучился по любезной своей Болгарии. «Нет, сказал он матери и боярам, не любо мне жить в Киеве; я хочу жить в Переяславце на Дунае, там середина земли моей; туда все блага сходятся: от греков золото, паволоки, вина, овощи; от чехов и угор серебро и кони; из руси меха, мед, воск, челядь».
В следующем году Святослав решил исполнить свое заветное желание и вместо себя посадил старшего сына Ярополка в Киеве, а второго, Олега, в земле Древлянской.
Тогда же пришли к нему новгородцы просить себе князя. «Если вы не пойдете к нам, говорили они, то мы найдем себе князя и в другом месте». «Но кто к вам пойдет?» отвечал Святослав. Ярополк и Олег отказались; тогда Добрыня научил их просить Владимира, племянника его, от сестры Малуши, ключницы Ольгиной. И новгородцы повели к себе Владимира, вместе с Добрынею.
Устроив так дела, Святослав оставил нашу землю на произвол обстоятельств, думая основать новое государство в Болгарии на Дунае.
Между тем, в Византии произошла новая перемена. Иоанн Цимисхий, знаменитый полководец греческий, умертвил несчастного Никифора, в заговоре с его супругой, и взошел на окровавленный престол. Со Святославом он желал обойтись пока без войны: отправил к нему посольство вручить богатые дары и объявить, чтобы он, исполнив желание императора Никифора и получив награду, оставил Болгарию, принадлежащую империи, и возвращался благополучно в свое отечество.
«Выкупите у меня прежде все взятые мною города, отвечал Святослав, окрыленный победами и завоеваниями, выкупите ваших пленников, заплатите золотом за Болгарию, и я оставлю ее, а если не хотите, то нет вам мира».
Греки напоминали ему судьбу отца его, Игоря, который за нарушение договора был разбит на Черном море. «Мы сами придем к вам прежде вашего, отвечал Святослав, раскинем шатры свои пред вратами вашей столицы, обнесем город крепким валом, – и тогда выходите на битву. Мы покажем, что мы не малые дети, которых можно напугать угрозами, и увидим, кому достанется победа».
И немедленно, умножив свое войско болгарами и уграми, Святослав двинулся вперед и перешел Балканские горы.
Цимисхий, желавший переговорами только выиграть время, встретил здесь Святослава с многочисленным, в несколько раз большим войском. Русское войско изумились такому неожиданному множеству неприятелей и устрашилось. Святослав сказал: «Нам некуда деться! Волею и неволею мы должны сразиться. Не посрамим земли Русской и ляжем здесь костьми. Мертвым срама нет, а если побежим, то не спасемся, а срам примем. Станем же крепко. Я пойду впереди! Если голова моя упадет, то промышляйте о себе». Воины воскликнули в ответ: «Где твоя голова упадет, там и наши», и бросились все на неприятеля с отчаянной решимостью. Произошла ужаснейшая битва, длилась она долго, и Святослав победил. Греки бежали.
Цимисхий не мог противиться более: ему надо было, во что бы то ни стало, не допускать Святослава до столицы. Он просил мира, осыпал его дарами, соглашался на все его требования. Святослав со своей стороны мог также желать скорого мира, потому что потери его были значительны, и у него уже недоставало сил для продолжения своих завоеваний. Он принял предложение.
Лишь только удалился Святослав, как император начал готовиться к новому решительному походу. Греки прошли Балканы и внезапно появились у Переяславца. Калокир, бывший в Переяславце, бежал к Святославу, стоявшему в Силистрии, известить его о новой войне.
Тяжело было Святославу думать о взятии Переяславца, а за ним и других болгарских городов, сдававшихся грекам, но он не думал смиряться, он надеялся еще раз победить греков и вышел навстречу Цимисхию. Уже недалеко от Силистрии сошлись соперники, и началось сражение. Победа долго оставалась нерешенной, пока, наконец, стремительный удар конницы не решил дела опять, и русь возвратилась в город.
Между тем, на Дунае показались огненные греческие суда, о которых на Руси хранилось такое страшное предание. В страхе потерять свои утлые челны порознь, русские тотчас собрали их вместе и поставили в ряд под стеной, омываемой Дунаем.
Около двух месяцев продолжалась осада. Император, не сумев справиться с русью в открытом бою, несмотря на превосходство сил, решился смирить их голодом. Войско Святослава терпело крайний недостаток во всяком продовольствии, между тем как греческое жило в изобилии. Никак нельзя было выйти из города, и всякое сообщение прервалось.
Святослав решился просить мира.
Цимисхий, со своей стороны, рад был кончить войну, которая, несмотря на победы, стоила ему дорого. Он принял предложение Святослава, налагая на него обязательства: не помышлять никогда на царство Греческое, не собирать воинов, не подсылать соглядатаев, не наводить других врагов ни на страну Греческую, ни на страны, ей подвластные. Если другой какой неприятель явится против греков, то русский князь обязан помогать им.
Как ни тягостны были условия, но Святослав должен был согласиться на все и объявил о том дружине.
Святославу захотелось еще раз увидеть своего врага, который остановил его на пути побед, заставил испытать много нужды и горя, и, наконец, уступить… Император Цимисхий согласился, и в позолоченных доспехах вышел на берег Дуная, сопровождаемый многочисленным отрядом всадников, в блестящем вооружении. Святослав приплыл к нему по реке в простой лодке, гребя веслом наравне с прочими гребцами.
Греки описали нам наружность своего страшного врага: роста он был среднего, собою строен, с голубыми глазами, носом плоским, бороду он брил, усы лежали на верхней губе длинными прядями. Голова у него была почти голая, и только на одной стороне висел пук волос, означавший благородство. Шея толстая, плечи широкие. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином посередине. Одежда на нем была белая и почти не отличалась от других, кроме чистоты. Сидя на лавке в ладье, мрачный и угрюмый, говорил он с императором. Свидание продолжалось недолго, и они расстались.
Немедля выдал Святослав грекам пленных, очистил Силистрию и отправился с печалью в сердце на родину, которую хотел было оставить навсегда, – и Русское царство на берегах Дуная не основалось: зерно его понеслось назад, к северу, в родимую почву.
Печенеги уже дожидались его у порогов, предупрежденные болгарами или самими греками о его возвращении с богатой добычей и малой дружиной. Князь их Куря напал на малочисленную дружину, разбил ее, – и сам Святослав погиб. Печенеги взяли его голову, оковали череп и сделали чашу, из которой после пили, поминая храброго врага.
Великий князь Ярополк. 972–980
Трое молодых сыновей Святослава правили на Руси. Старший, Ярополк, принявший теперь достоинство великого князя, в Киеве; второй, Олег, у древлян; младший, Владимир, в Новгороде. Мудрено им было не поссориться, когда страсти кипели в груди у всех одинаково, руки порывались на битву, все хотели повелевать, и никто не думал повиноваться.
Война началась между старшими. Ярополк пошел на Олега, под Овручем случилось сражение, первое междоусобное на Руси (976). Олег был разбит и принужден бежать.
Победитель вслед за ним вошел в город и послал искать брата, но его никак не могли найти, пока один древлянин не сказал, что видел накануне, как он, теснимый толпой на мосту, упал в гроблю (ров). Начали вытаскивать трупы из гробли, и уже около полудня нашли тело Олегово.
Владимир, третий брат, услышав о его смерти, испугался и бежал за море, к верному пристанищу у единокровных норманнов, а Ярополк прислал своих посадников в Новгород, «и бе един володея в Руси».
Долго жил Владимир у норманнов, собирая себе вспомогательную рать, и уже на четвертый год возвратился в Русь, сопровождаемый полками. Он выслал посадников Ярополковых из Новгорода и велел им сказать своему государю: «Владимир идет на тебя, выходи биться». Прежде, однако же, он пошел на Рогвольда, владевшего в Полоцке, чья дочь оскорбила его отказом выйти за него замуж. Добрыня, дядя Владимира, посылал к нему отроков просить его дочери в супружество за своего племянника. Гордая норманнка отвечала: «Не хочу разуть робичича (сына рабыни); я хочу Ярополка». Посланные принесли в Новгород этот унизительный ответ; Владимир, и еще более Добрыня, воспылали гневом. С готовыми воинами пошли они теперь в Полоцк, Рогвольд был побежден и пленен вместе с женой, сыновьями и дочерью.
«Робичица», закричал ей, ругаясь, Добрыня, как увидел ее, и велел Владимиру быть с нею перед отцом и матерью. Отца, мать и братьев Владимир потом убил, а ее взял женой, и была она прозвана Гориславою.
Из Полоцка Владимир пошел к Киеву. Брат не мог выйти против и заперся в городе. Владимир послал к Блуду, воеводе Ярополка, склонять его на свою сторону. Блуд согласился. Он убедил Ярополка оставить Киев под тем предлогом, что киевляне будто бы пересылаются с Владимиром, зовут его к себе и хотят предать своего князя. Ярополк ушел на устье Реи, в город Родню, а Владимир занял Киев, и воины его осадили брата в Родне. Осажденные скоро были доведены до крайности, и долго на Руси слышалась пословица: беда, как в Родне. Тогда Блуд сказал Ярополку: «Видишь, сколько воинов у брата, нам их не перебороть, заключи скорее мир с ним». Владимира же послал он предупредить, что ведет к нему Ярополка, и чтобы тот приготавливался убить его.
Владимир с дружиной ожидал брата на теремном дворе. «Иди теперь, посылал его Блуд, и скажи ему, что ты будешь доволен всем, что бы он ни дал тебе». «Не ходи, князь, удерживал его верный слуга Варяжко, убьют тебя. Беги лучше к печенегам и приведи войско». Ярополк не послушал его, и лишь только отворил дверь, которую Блуд тотчас затворил, не пуская за нее его воинов, как два варяга подняли его мечами под пазухи и убили.
Великий князь Владимир. 980–1015
Владимир стал единым государем. Утвердившись на столе киевском, Владимир начал ходить ежегодно в походы, подобно своим предшественникам. На первый год (981) пошел он к западу и взял города Перемышль и Червень (Галицию). В том же году ходил он на вятичей и наложил на них дань от плуга, как брал его отец.
На второй год (982) воевал он снова с вятичами, которые заратились, и победил их опять.
На третий год (983) овладел он отдаленной землей ятвягов, потомков сарматских, между Литвой и Польшей.
Столько успешных походов и побед требовали благодарности и жертвы богам. Еще в первые годы своего княжения поставил он в Киеве (а Добрыня в Новгороде) кумиры их на холме, за двором теремным: Перуна деревянного с головою серебряною и усом золотым, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла и Мокоша, пред которыми приводились юноши и девы, совершались жертвы, и осквернялась кровью земля Русская, как вспоминал после с негодованием набожный летописец.
Владимир ходил еще (984) на радимичей, которых победил на реке Пищане посланный им вперед воевода, прозванием Волчий Хвост. Радимичи принуждены были давать дань в Киев и давали ее еще при Несторе.
Потом ходил он (985) в ладьях вместе с дядей своим Добрыней, на волжских болгар, отдохнувших после разгрома Святославова, во время войн его на Дунае и усобицы между его сыновьями.
После всякого такого похода возвращался Владимир в Киев, обремененный добычей, и начинался у него пир с удалой дружиной. На пирах Владимира раздавались веселые песни, играли гусли; турий рог, наполненный вином, обходил гостей; вещие бояны возлагали руки на живые струны, и струны сами славу князьям рокотали, – Олегу и Игорю, Ольге и Святославу, и самому ласковому князю Владимиру.
Могучие витязи его также живут до сих пор в памяти народной: Илья Муромец, Алеша Попович, Чурила Пленкович, Добрыня Никитич и прочие.
Но еще больше вина, пиров, веселья и войны любил Владимир женщин: он побежден был похотью женскою, говорит летописец, и «беша ему водимыя»: Рогнеда, от которой он имел четырех сыновей – Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и двух дочерей.
Другая жена его была болгарка, от которой имел он Бориса и Глеба. Одна чешка родила ему Вышеслава, другая Святослава и Мстислава. Жена Ярополкова, гречанка, приведенная его брату еще отцом Святославом, ради красоты лица ее, взята им была к себе беременная и родила Святополка. «От греховнаго бо корени, замечает Нестор, зол плод бывает». Наложниц жило у него двести в Вышегороде, триста в Белгороде и двести на Берестове, где после было сельцо Берестовое: «и бе не сыть блуда, заключает Нестор, женолюбец, яко же и Соломон. Но Соломон мудр бе, и наконец погибе; се же бе невеголос, а наконец обрете спасение».
Летописец обращает этими словами внимание на принятие Владимиром христианской веры, о чем передано им (986) следующее повествование.
Соседние народы, которым русский князь стал еще страшнее своих предшественников победами, завоеваниями, счастьем, старались привлечь его на свою сторону и войти с ним в союз. Вера казалась им, и очень справедливо, лучшим для того средством. У хозар господствовал закон Моисеев; волжские болгары были магометане; греки хотели обратить Владимира к христианству Восточной церкви; немцы, к которым посылала посольства Ольга, и даже Ярополк, предлагали исповедание римское.
Прежде всех пришли болгары, только что заключившие договор. «Ты князь мудрый и смышленый, сказали они, а закона не знаешь. Прими закон наш, и поклонись Бохмиту». Владимир спросил: «В чем состоит закон ваш?» «Веровать в Бога, – и еще учит нас Бохмит обрезаться, свинины не есть, вина не пить; зато по смерти даст он всякому правоверному по семидесяти жен красных, и на одну из них возложит красоту всех семидесяти, и та будет ему женою». – Владимир слушал это с большим удовольствием, потому что любил жен, но обрезание было ему противно, отвержение мяса свиного также не нравилось, а всего более запрещение вина. «Нет, отвечал он, Руси есть веселие – пити; мы не можем быть без того».
Посланные от папы немцы говорили: «Земля твоя, как и земля наша, а вера твоя не как вера наша. Наша вера свет есть. Мы кланяемся Богу, иже сотворил небо и землю, и всякое дыханье, а ваши боги древо». Владимир спросил: «Какая же у вас заповедь?» – «Поститься по силе, отвечали они, кто ест и пьет, все во славу Божью…» «Нет, прервал Владимир, возвращайтесь домой: отцы наши не знались с вами».
Пришли жиды хозарские и сказали: «Мы слышали, что были у тебя болгары и христиане учить тебя вере своей – мы распяли того, в кого христиане веруют, а мы знаем единого Бога Авраамова, Исаакова, Иакова». «Где земля ваша?» спросил Владимир. «В Иерусалиме. Но Бог разгневался на нас за грехи наши и расточил по странам чуждым». «Так как же беретесь вы учить других, сами отверженные Богом и рассеянные? Если бы Бог любил вас и закон ваш, так не расточил бы вас по странам чуждым. Хотите вы, чтоб и с нами было то же?»
Наконец, греки прислали к Владимиру своего учителя, который растолковал ему, в чем состоят заблуждения всех этих исповеданий.
Учитель развернул перед Владимиром картину, изображающую Страшный суд, и указал ему праведников, идущих в рай, и на другой стороне грешников, посланных в ад.
С тяжелым вздохом, в глубоком размышлении, сказал Владимир, рассматривая картину: «Счастливы праведные, горе грешникам». «Крестись, прервал учитель, если хочешь стать с праведными». Владимир отвечал: «Дай мне время», – и, осыпав грека дарами, отпустил с честью.
Причина медлительности его была следующая: он должен был знать мнение своей дружины, бояр и старцев, без которых не мог решать ничего. Он созвал их и сообщил предложения болгар, жидов и немцев, которые все хвалили законы свои.
Бояре и старцы отвечали: «Ты знаешь, князь, что своего никто хулить не станет, но хвалит всегда. Если хочешь узнать истину, то у тебя есть мужи, – пошли их испытать, как кто служит Богу».
Совет этот понравился князю и всем людям. Избранные мужи, добрые и смышленые, числом десять, обошли все страны, были у болгар, потом у немцев и, наконец, пришли к грекам.
Император, узнав о цели их прибытия в Константинополь, повелел показать богослужение во всей красоте. Патриарх облачился в святительские ризы; светильники пылали в храме Святой Софии; кадила благовонные дымились, согласные лики славословили Господа. Послов поставили на возвышенном месте, показывали им всю красоту церковную и объясняли значение всех действий. Они были в изумлении, дивились и не находили слов для выражения своих чувств.
Когда они возвратились в Киев, Владимир велел им рассказать о виденном перед дружиною, боярами и старцами. Они начали: «У болгар закон нехорош. Поклонившись, садятся и поворачиваются по сторонам как бешеные. Радости нет никакой, а только печаль. Немцы служат в храмах долго, но без красоты. А когда греки привели нас туда, где они поклоняются своему Богу, то мы не узнали, на земле ли мы были или на небе. Нигде нет такого вида и такой красоты, которых рассказать мы не умеем; уверены только, что здесь пребывает Бог с людьми, и служба их краше всех стран. Всякий человек, вкусив сладкое, не примет горечи, так и мы…»
Бояре, выслушав повествование, сказали: «В самом деле, если бы греческий закон не был лучше всех, то бабка твоя Ольга не приняла бы его: она была ведь мудрее всех людей».
В следующем году Владимир пошел на Корсунь, греческий город, и осадил его. Взяв город, Владимир тотчас послал послов к греческим императорам, Василию и Константину, требовать сестры их, царевны Анны, себе в супружество, грозя в случае отказа взять Константинополь, как теперь взял Корсунь. Император изъявил свое согласие с условием, чтобы он принял христианскую веру: иначе христианке нельзя сочетаться узами брака с язычником. «Я готов креститься, отвечал Владимир, потому что люба мне вера ваша, и посланные мои, испытав, одобрили ее, присылайте сестру вашу с людьми, которые окрестят меня».
Епископ корсунский со священниками, прибывшими с царевною из Константинополя, огласив Владимира и передав ему символ веры, совершил над ним таинство святого крещения, в церкви Святого Василия, стоявшей посреди торговой площади. По совершении крещения совершен был брак.
Лишь только возвратился Владимир в Киев, как и велел ниспровергнуть кумиры, одни сжечь, другие истребить, а главного, Перуна, привязать к конскому хвосту и волочить с горы по Боричеву взвозу на ручей, с ручья же в Днепр. Неверные люди плакали, провожая кумир, пущенный по реке. Князь приставил двенадцать человек отталкивать его от берега, пока не пройдет пороги. За порогами выбросило кумир на берег, и то песчаное место долго называлось в народе Перуновой релью.
На другой день велел Владимир созвать жителей всего города к реке, говоря: «Если кто не окажется на реке, богатый или убогий, нищий, работник, тот будет мне противен». Люди собрались с радостью, толкуя про себя: «Если бы это было нехорошо, то князь и бояре не сделали бы того».
Поутру вышел Владимир на Днепр с попами царицыными и корсунскими, с сыновьями и боярами. Народу множество, без числа, толпилось на берегу, – и начался торжественный обряд крещения.
Владимир велел строить церкви по всем тем местам, где стояли идолы. На Перуновом холме, куда приходили князь и люди творить требы богам, поставлен был храм Святого Василия, имя которого получил он при крещении. Тогда же и по прочим городам и селам начали приводить людей на крещение и ставить церкви: рассылались священники, дети отдавались в ученье книжное.
Так крестился Владимир и сыновья его, и вся почти земля Русская, мирно, беспрекословно, в духе кротости и послушания.
Владимир, пожив некоторое время в законе христианском, пожелал создать великолепную церковь, подобную той, какую видел в Корсуне. Шесть лет мастерами греческими строилась церковь, основание которой, скрытое в земле, удивляет до сих пор своим пространством и соразмерностью. Владимир отдал в нее все, что привез из Корсуня – иконы, сосуды, кресты, и поручил ее Анастасу Корсунянину, приставив попов корсунских, определил ей десятую часть от всего имения и всех городов своих. Освящение церкви было совершено с великим торжеством.
Греция, и еще более соседняя, единоплеменная Болгария, уже давно просвещенная христианским учением, имевшая многих знаменитых учителей, преемников святых Кирилла и Мефодия, доставляли нам первых священников, пылавших огнем обращения, как бывало везде с первыми христианами. Они принесли с собой священные книги, Евангелие, Апостол, литургию, писания отцов церкви на родном языке.
Владимир как будто переродился и начал иную жизнь. Жестокосердый, сладострастный, кровожадный, преданный пьянству, он стал умерен, воздержан, кроток, человеколюбив. Он приказывал всем нищим и убогим приходить на двор княжий и брать себе все, что нужно, пищу и питье, одежду и куны из скотниц. Распорядясь так, он все еще был недоволен, ибо больные и немощные не могут, говорил он, дойти до моего двора. Что же он сделал? Он велел пристроить возы, накладывать на них хлеба, мяса, рыбы, всяких овощей, квасы и меды в бочонках и возить по городу. Из улицы в улицу разъезжали его слуги и спрашивали: «Где больные и нищие, не могущие ходить», – и раздавали всем, кому что надо.
Точно так же, получив понятие из Священного Писания о драгоценности человеческой жизни, он не хотел казнить смертью даже разбойников.
И бранный дух Владимира, кажется, угас. В продолжение двадцати пяти лет остальной его жизни летопись упоминает в двух словах об одном походе его на хорватов (в 993 году), вероятно, по какой-нибудь особой причине; он жил в мире со всеми соседними государями: с Болеславом, королем ляшским, Андреем чешским, Стефаном угорским.
Только с печенегами война была беспрестанно. Владимир, лишь только водворился в Киеве, как начал принимать против них меры и поставил множество городов по Десне, Остру, Трубежу, Суле и Стугне, населил их мужами лучшими от словен, кривичей, чуди и вятичей, чтобы преграждать их набеги до Киева; иногда принужден он бывал ходить в Новгород, чтобы нанимать оттуда верховных воинов, то есть норманнов.
Сыновья его княжили в уделах, розданных им очень рано, под наблюдением кормильцев, и платили урочную дань отцу: Ярослав в Новгороде, Святополк в Турове, Борис в Ростове, Глеб в Муроме, Святослав в Деревах, Всеволод во Владимире, Мстислав в Тмуторакани…
В последний год своей жизни (1013) Владимир был огорчен ослушанием сына Ярослава, который, понадеясь на силу новгородскую и помощь варягов или на старость отца и свое отдаление от него, не хотел платить двух тысяч гривен, что новгородские посадники платили уроком киевскому князю, раздавая тысячу гридям в Новгороде. Владимир рассердился. «Готовьте путь, мостите мосты», воскликнул старый князь, собираясь сам идти на войну, но силы ему изменили, он занемог. Между тем, пришло известие с другой стороны, что идут печенеги. Владимир должен был пока оставить без наказания дерзкого сына и послать свою дружину против печенегов с любимым сыном Борисом, который находился тогда в Киеве. Он уже не смог дождаться их возвращения: 13 июля 1013 года он скончался в любимом сельце Берестовом, лет шестидесяти с лишком от рождения.
Великий князь Святополк. 1013–1019
Во время кончины великого князя Владимира Святополку, его усыновленному племяннику, случилось быть в Киеве. Имея право на стол великокняжеский, как сын старшего брата Владимира, Ярополка, он остался в Киеве, созвал киевлян и начал оделять их дарами. Те принимали дары неохотно: сердце их было с братьями в дружине Борисовой. Святополк должен был опасаться, чтобы этот любимый князь, имея с собою сильную рать, не лишил его отчины, согласно с желанием людей и бояр. Может быть, говорил в нем и тайный голос мести за отца Ярополка, убитого Владимиром. Как бы то ни было, он решил погубить Бориса и ночью, тайно, ушел в Вышгород.
Борис, не найдя нигде печенегов, возвращался со своими воинами, когда пришла к нему весть о смерти отца. Воины пришли к нему: «Спеши в Киев и садись на столе отца». «Нет, не могу я поднять руки на брата старшего, отвечал Борис. Он должен быть мне вместо отца». Такой смиренный ответ не мог понравиться дружине, любившей власть, богатство и войну. От робкого все ушли к смелому, и Борис остался с одними отроками.
Приходит другое известие: хотят погубить тебя. Борис, вероятно, христианин с младенчества, воспитанный в правилах евангельского учения матерью болгаркой, не думал о сопротивлении, которое, за уходом дружины, становилось даже бесполезным, а только о приготовлении к христианской кончине. Помолясь, он лег на ложе. Убийцы, как дикие звери, ворвались в шатер и пронзили копьями его и любимого отрока Георгия.
Святополк мог ожидать мести от родного Борисова брата, по отцу и матери, Глеба, князя муромского. Надо было извести и его, для предупреждения опасности. Он послал звать Глеба, якобы к занемогшему отцу. Глеб, «сед вборзе на коня», пошел с малой дружиной, «бе бо послушлив отцю». В пути дошло до него известие от Ярослава, что отец их умер, что брат Борис убит Святополком и что он не должен идти в Киев. Глеб облился горячими слезами, и по отцу, и особенно по брату, с которым связан был узами крови, и от которого, по старшинству, получал продолжение материнских наставлений о высокой христианской добродетели. «Увы мне, Господи, говорил он, как передает летописец, лучше умереть мне с братом любимым, нежели остаться одному на этом суетном свете!»
Посланцы Святополка плыли по Днепру, окружили корабль Глеба и обнажили мечи. Отроки его оробели. Начальник убийц, Горясер, закричал им, чтоб они убили своего князя. Повар Глеба, именем или родом Торчин, вынул тотчас нож и зарезал его.
Святополк послал убить еще третьего брата, Святослава древлянского, который бежал было в угры, но был настигнут в горах, и начал княжить в Киеве, раздавая людям куны и всякое богатство.
Между тем как эти происшествия следовали одно за другим в Киеве, в Новгороде Ярослав, находившийся в коротких связях с норманнами и желавший утвердить их еще более, вступил в супружество с Ингигердой, дочерью Олава, короля шведского (1019).
Норманны, призванные Ярославом на помощь против отца, наглые и буйные, оставшись у него на службе, причиняли насилие новгородцам и женам их. Те не могли долго сносить обид, встали и избили их на дворе Парамоне. Ярослав озлобился: он ждал спасения только от своих воинственных наемников и должен был даже отвечать некоторым образом за их гибель перед всеми их единоплеменниками. Затаив гнев, он уехал на Ракому, в загородное свое село, на берегу Волхова, и лестью призвал к себе главных новгородцев, которые иссекли норманнов. Новгородцы пришли и были все преданы смерти.
В эту самую ночь получает он известие от сестры Передславы из Киева: «Отец наш умер, Святополк занял его стол, велел убить Бориса и послал на Глеба; берегись его и ты!»
Что было делать Ярославу! Без новгородцев он не мог теперь успеть ни в чем, а надеяться на них было нельзя, после такой вероломной над ними казни. Дорого бы он дал, чтобы не спешить со своей местью. Скрепя сердце, поутру он созвал остальных новгородцев и, плачущий, сказал им: «О люба моя дружина, что вчера избил я, а ныне надобна». «Ты избил нашу братью, отвечали они, но мы поможем тебе». Вероятно, они надеялись на добро от Святополка еще менее, чем от Ярослава.
Святополк выступил навстречу к новгородскому князю с русью и печенегами. Противники сошлись на Днепре у Любеча и остановились на берегах друг против друга. Долго не решался начать никто. Святополк, стоявший на берегу между двумя озерами, не думая вовсе о сражении, пил со своей дружиной. Перед рассветом Ярослав поднял полки и переправился. Выйдя на берег, новгородцы оттолкнули лодки, чтобы нельзя было воротиться. Началась злая сеча. Ярослав начал одолевать, и Святополк бежал к ляхам, к тестю своему, Болеславу Храброму, королю польскому, а Ярослав занял Киев и сел на столе отца и деда.
Болеслав, король польский, справедливо прозванный Храбрым, ужас своих соседей, пошел в следующем году на киевского князя. Ярослав был застигнут врасплох, совершенно разбит, лишился даже всякой надежды бороться и бежал в Новгород.
Король польский собирался, по-видимому, оставаться в Киеве дольше, чем желал Святополк; может быть, он думал даже иметь в зяте подвластного себе данника и покорить Киев владычеству Польши. Святополку не хотелось уступить власти кому бы то ни было: он велел жителям убивать тайно воинов польских, разведенных по городам на корм. Ляхов избили много, так что Болеслав должен был опасаться и за себя. Оставаться долее во враждебной земле ему было нельзя; он поспешил удалиться.
Святополк успел освободиться от нечаянного своего врага-благодетеля, но другой уже шел на него. Не с чем было встречать ему Ярослава, и он бежал к печенегам, а князь новгородский опять занял Киев.
Уже на другой год (1019), собрав многочисленное войско, явился Святополк с наемными печенегами. На реке Альте, там, где погиб несчастный Борис, противники сошлись. Все поле было покрыто воинами. Три раза сходились противники, наконец, к вечеру одолел Ярослав.
Святополк должен был искать спасения в бегстве, но он не мог сидеть на коне от слабости. Его положили на носилки и понесли. Ему все казалось, что за ним гонятся, и он беспрестанно оборачивался назад, погоняя своих воинов. Лишь только те останавливались где-нибудь, как он высылал их осведомляться: «Посмотрите, не гонятся ли за нами». Отроки возвращались с ответом, что погони никакой не было, но больной вскакивал и кричал опять: «Гонятся, побежим!» – и воины должны были с ним спешить дальше и дальше. Так достигли они Бреста, города Туровского княжества. Святополк не успокаивался и никак не мог оставаться на одном месте. Ему все чудилась погоня. «Несите дальше, дальше!» Они пробежали Лядскую землю, говорит Нестор, и там, где-то за нею, Святополк «зле изверже живот свой».
Великий князь Ярослав. 1019–1034
Ярослав мстил Святополку за смерть своих братьев, но было, за что мстить и ему. Полоцкий князь Брячислав, сын Изяслава, внук славной Рогнеды, унаследовал ее кровную ненависть к потомству разлюбившего ее мужа.
Брячислав напал на Новгород, пленил многих жителей и захватил богатую добычу. Ярослав догнал полоцкого князя на обратном его пути около реки Судомы и победил, однако же дал ему в придачу к прежней волости Витебск и Усвят (1021).
Вскоре за этой войной Ярослав должен был защищаться от брата своего Мстислава, князя тмутораканского, который, один из всех сыновей Владимира, еще оставался в живых, кроме Судислава, княжившего, вероятно, в Пскове.
Мстислав пошел на Киев, взяв с собою хозар и касогов (1023). Киевляне не пустили его, однако же, к себе, хотя Ярослава не было тогда дома: он уезжал в Новгород, а оттуда должен был отправиться в Суздальскую землю.
Чтоб отбиться от своего нового врага, Ярослав должен был возвратиться в Новгород и искать помощи там, где находил ее отец его и прочие князья, во всяком случае нужды, – у норманнов. Ждать долго они себя не заставляли, было бы готово золото, серебро и паволоки за их ратную службу. Снарядившись, пошли они на Мстислава, который встретил их у Листвена, недалеко от Чернигова. С вечера исполчил он дружину, поставив северян в середине против варягов, а сам с нею по крыльям. Северяне сошлись с варягами, но где же было им устоять против опытной в боях руки норманнского племени! Ярославовы варяги одолевали и «трудишася, секуще север», говорит летописец, но подоспел сам Мстислав с дружиной своей, навалился на варягов и сломил их полк. Ярослав увидел, что берет не его сила, и бежал.
Однако же Мстислав не хотел низложить Ярослава совершенно: он послал звать его, как старшего брата, в Киев, «а мне буди сия сторона». Но Ярослав не смел ему верить и прислал в Киев только мужей своих, а сам, только через три года, со вновь набранными воинами, появился в своей столице. Под Городцом братья разделили Русскую землю, назначив границей между собою Днепр (1026), «и начаста жити мирно, в братолюбстве, и уста усобица и мятеж, и бысть тишина велика в земли года три».
На четвертый год Ярослав начал продолжение походов на соседние племена, пошел воевать дальше и дальше.
В 1031 году ходил он вместе с Мстиславом на Польшу, которая только что лишилась своего славного Болеслава и раздиралась междоусобиями. Этот поход был последним для храброго Мстислава. Выйдя на охоту, он разнемогся и умер, вскоре после единственного своего сына Евстафия, и вся власть его досталась Ярославу, который сделался, как Владимир, самовластцем почти всей Русской земли (1036).
Новгород отдал он тогда сыну Владимиру, которому исполнилось 16 лет. Тогда же, вероятно, раздал он города и прочим сыновьям, а брата Судислава, оклеветанного, засадил в темницу в Пскове (1036), где он и оставался во все продолжение Ярославовой жизни.
В отсутствие его печенеги опять набежали на Киев. При первом известии Ярослав собрал войско, словен и варягов, и поплыл на помощь к своей столице. За городом произошло кровопролитное сражение, и только к вечеру одолел киевский князь. На месте сражения в следующем году (1037) заложил Ярослав великую церковь Святой Софии, наподобие константинопольской, а Киев обвел каменной стеной, для защиты от вражеских набегов, с Золотыми воротами, ветхие останки которых видны еще и теперь.
В 1043 году отправил Ярослав сына, снарядив многочисленное войско, на Царьград, к старинной любимой цели русских князей, оставленной в покое после принятия христианской веры и начавшегося родства с греческими императорами. Молодому Владимиру, пылкому и храброму юноше, захотелось, видно, отличиться в предприятии славном, на войне опасной и выгодной.
Возглавить поход Ярослав поручил Вышате. В легких однодеревках поплыли витязи под Царьград по знакомому пути. Император Мономах, узнав о несущейся на него грозе, тотчас послал послов навстречу Владимиру, просить, чтобы он отложил оружие и не нарушал долговременного мира. Владимир, которому хотелось войны во что бы то ни стало, осрамил послов и отпустил назад с высокомерным ответом. Константин должен был готовиться к обороне.
Русь уже подплыла к самому проливу и остановилась у Фара. Противники выстроились, но никто не хотел начинать сражения. Император перед вечером отправил вторичное посольство с предложением о мире. Владимир опять принял послов с презрением и потребовал по три фунта золота на всякого своего воина, чего и в половину не получил сам вещий Олег. Такого нелепого требования греки, разумеется, исполнить не могли и решили сразиться. На другой день отправили они три галеры ударить на неприятеля и вызвать его в открытое море. Начальнику их удалось проникнуть в середину русских судов и пустить греческий огонь; семь ладей он сжег, одну пленил, одну затопил. Русь снялась с якорей, выплыла на простор, как вдруг, ей на беду, подул ужасный восточный ветер. Поднялась буря. Море взволновалось, и все ладьи русские разметало: одни, опрокинутые, пошли ко дну, другие выброшены были на берег, иные унесены в открытое море. Княжеский корабль был потоплен, так что Владимира едва спас воевода Ярослава Иван Творимирич, приняв его к себе на корабль. На берегу собралось руси до шести тысяч, которым ничего не оставалось делать, как возвращаться сухим путем.
Император, довольный успехом, удалился в город, оставив у Фара суда для преследования неприятеля. Русь после бури собралась в пристани, образуемой двумя мысами. Греки проплыли мимо, и Владимир, увидев их малое число, выслал несколько людей, чтобы пресечь им обратный путь. Гребя изо всех сил, другие русские пловцы успели окружить их со всех сторон. Грекам надо было сразиться, и Владимир разбил их совершенно, в утешение себе за вчерашнюю беду. Четыре судна взял он в плен, и даже то, на котором находился начальник ополчения. Прочие греческие суда сели на мель или разбились о подводные камни. Однако же Владимир, потеряв много судов и людей накануне, не мог исполнить своего намерения напасть на Константинополь и должен был удалиться, хотя и со многими пленными.
Это был последний греческий поход норманнских русских витязей, которые, в продолжение двухсот лет, чудесами своей отваги, предприимчивости и храбрости, приводили в трепет знаменитую столицу Восточной Империи.
С каждым годом усиливался и прославлялся Ярослав более и более. Под конец его жизни пределы унаследованной им от отцов Руси распространились до Черного и Балтийского морей, до Уральских, Карпатских и Кавказских гор, до внутренней Польши. Вот как широко и далеко очертилась норманнами окружность Русского государства!
Всех своих сыновей Ярослав переженил на иностранных княжнах, а дочерей выдал замуж за королей и принцев и вступил в родство со многими европейскими государями.
Ярослав пировал, воевал с соседями, пленял и убивал, – и в то же время строил церкви, учреждал монастыри, покровительствовал черноризцам, любил читать и слушать душеспасительные книги.
Ярославу принадлежит первое оглашение русских законов, которое он, «списав», дал первоначально новгородцам, отпуская их с благодарностью из-под Киева, с их помощью приобретенного, и сказал: «По сей грамоте ходите, якоже писах вам, такоже держите».
Эта Русская Правда, явственная и в договорах с греками под именем закона Русского, распространилась и по всей его державе. Норманнская в своем основании, она подверглась в продолжение двухсот лет до Ярослава влиянию славянскому и потом несколько христианскому.
Вот весь круг первоначальных отношений между русскими людьми ее времени: убийство и право мести за оное, побои и пеня, укрывательство холопов, кража, порча оружия, со свидетелями, поручителями и судом 12 целовальников.
К 1051 году принадлежит многознаменательное действие Ярославово: без всякого сношения с Византией, откуда мы получили пастырей, он назначил киевским митрополитом Илариона, который и был посвящен епископами в соборе Святой Софии. Так с самого начала власть духовенства стала у нас в подчинении власти правительства, сохраняя свое верховное право только в деле веры и ее учения.
Ярослав, в глубокой старости, на восьмом десятке, дождавшись многих внуков, между которыми последним был Мономах, сын Всеволода от греческой царевны, скончался в Киеве, на Федорову субботу, февраля 19 числа, 1051 года.
Княжением Ярослава оканчивается первый период Русской Истории, который по всей справедливости можно называть Варяжским или Норманнским. Князья, сохраняя чистый норманнский характер, подновляемый брачными союзами, ходили войною во все стороны, на восток и запад, юг и север, и облагали данью соседние племена, близкие и дальние, расширяя пределы своих владений и вводя везде норманнские порядки.
Любимой целью их бранных набегов был Константинополь, плативший Руси почти постоянную дань.
Рассматривая описанные события, мы постараемся теперь извлечь их смысл и понять, как возникало, развивалось и образовалось ими государство Русское.
Образование государства
И государства, как все существа в мире, начинаются неприметными точками. Долго-долго, в сильное увеличительное стекло, надо смотреть на безобразную, разнородную груду земли, людей и их действий, на этот человеческий хаос, чтобы, наконец, поймать в нем трепещущую точку, поймать, вонзиться взорами и уже не выпускать потом ни на минуту из виду; с напряженным вниманием подмечать ее тихое, медленное, постепенное увеличение, все эпохи, или, лучше, моменты развития, пока, наконец, через много-много лет, много времени, точка эта обозначится, забьется жизнью, установится на своем месте, оденется плотью, обретет лицо, укрепится костьми и начнет действовать.
Рюрик был призван новгородцами.





























