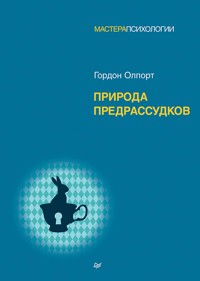
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Питер
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Эта книга - эпохальное исследование корней и природы предрассудков - до сих пор остается одной из главных работ о дискриминации и геноциде. Олпорт исследует все аспекты предубеждений: их разновидности и проявления, влияние на отдельных людей и сообщества. На русском языке публикуется впервые.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 848
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Переводчик Е. Карманова
Гордон Олпорт
Природа предрассудков. — СПб.: Питер, 2025.
ISBN 978-5-4461-2078-9
© ООО Издательство "Питер", 2025
Оглавление
Об авторе
Один из ведущих социальных психологов XX столетия Гордон У. Олпорт родился в 1897 году в Монтесуме, штат Индиана. Учился в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра в 1919 году, степень магистра в 1921 году и степень доктора философии по психологии в 1922 году. После окончания адъюнктуры в Кембридже, Берлинском и Гамбургском университетах преподавал в Стамбуле (Турция) и в Дартмутском колледже. С 1930 года был профессором психологии в Гарварде. Олпорт также являлся президентом Американской и Восточной психологических ассоциаций, директором Национального центра изучения общественного мнения и редактором журнала Abnormal and Social Psychology. Автор целого ряда книг, в числе которых The Psychology of Rumor («Психология слухов»), The Individual and His Religion («Индивид и его религия»), Personality: A Psychological interpretation («Личность: психологическая интерпретация») и Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality («Становление: основные концепции психологии личности»). Доктор Олпорт ушел из жизни в 1967 году.
Вступительное слово Кеннета Б. Кларка
Мне посчастливилось знать Гордона Олпорта не только как одного из ведущих социальных психологов, но и как доброго и сострадательного друга, поэтому мне сложно говорить о «Природе предрассудков» в отрыве от вклада Гордона Олпорта в развитие социальной психологии, других его исследований и воззрений. Олпорт — больше чем социальный психолог, он социальный философ и человек, способный сопереживать и проявлять сердечность.
Гордон Олпорт во многом раскрылся как человек в первом издании «Природы предрассудков», опубликованном в 1954 году. Но ключи к пониманию того, как он отважился обсудить с точки зрения социологии такую эмоционально нагруженную проблему, как человеческие предрассудки, прослеживаются с 1937 года. В первом издании классического труда «Личность: психологическая интерпретация» Олпорт как будто описал себя. Перечисляя качества по-настоящему зрелой личности — расширенное «я», самообъективацию, проницательность и юмор, — а также объединяющую все философию жизни, Олпорт невольно нарисовал довольно точный автопортрет, что могут подтвердить те из нас, кто знал его лично. В силу его спокойной сдержанности и привычке к самоконтролю обсуждать это с ним было бы сложно и даже немыслимо. Однако он остается выдающимся примером того, что объединяющая философия жизни, в которой важнейшую роль играют человеческие ценности, распространяется на все аспекты жизни и работы и придает им смысл.
Труд «Природа предрассудков» является общепризнанной классикой. Его содержание определяет границы социологического подхода к обсуждению и пониманию этой сложной общечеловеческой проблемы. И хотя за последние 25 лет акценты в сфере динамики и контроля расовых предубеждений сместились благодаря общественной, правовой и политической деятельности, основные контуры для понимания этой проблемы по сути остаются неизменными — такими, какими их представил Олпорт.
Молодому поколению социологов недостаточно очевидно, что Олпорт, как и Гуннар Мюрдаль, является ярким примером социолога, который совсем не чувствует вины за убежденность в том, что социальная наука должна быть ценностно ориентированной. Олпорт и Мюрдаль показали, что социальные науки могут способствовать пониманию и решению социальных проблем и при этом ориентироваться на ценности и оставаться социально чуткими. Что еще важнее, Олпорт и Мюрдаль постоянно доказывали, что вдумчивые, высоконравственные, рациональные социологи в наше время должны быть хранителями таких непреходящих ценностей, как справедливость, и что натренированный человеческий ум является важнейшим орудием в непрекращающейся борьбе с невежеством, предрассудками и несправедливостью.
Эти важные уроки необходимо еще раз подчеркнуть, особенно в свете того, что в последнюю четверть века некоторые молодые и широко публикуемые ученые все чаще защищают внеценностный подход и моральный релятивизм, считая их незыблемыми требованиями социальной науки. Возможно, вовсе не случайно то, что фоном для неоконсервативных тенденций в среде ученых-социологов стала негативная реакция на значительный прогресс в расовом вопросе, к которому привел судебный процесс Брауна против Совета по образованию1, состоявшийся в 1954 году. Такую удобную позицию, которая позволяет ученым-социологам не вовлекаться в борьбу за социальную справедливость и предлагать свои услуги тем, кто хочет использовать власть для поддержания статус-кво, можно назвать защитной и «реалистичной». Но эта субъективность — робость или предвзятость, тщетно прикрываемая традициями, методами и терминологией социальных наук, — далека от убеждений Олпорта и Мюрдаля.
Еще в 1937 году Олпорт выступал против зарождающегося преклонения перед статистикой, которое затемняет или искажает основные проблемы и потенциальные истины социальной науки. Он утверждал:
В любом случае статистические данные как таковые непригодны для самоинтерпретации... Если аргумент убедителен, статистика может лишь представить факт в символьной форме; если аргумент несостоятелен, никакая статистика не сделает его достоверным, она лишь усилит путаницу.
В работах Олпорта можно найти немало размышлений о социально ответственном применении социальных наук, об их смысле. В предисловии к изданию «Природы предрассудков» 1958 года Олпорт проницательно анализирует принятое в мае 1955 года постановление Верховного суда США о «тщательно продуманной скорости» исполнения исторического решения по процессу Брауна против Совета по образованию 1954 года о десегрегации государственных школ. Он аргументированно демонстрирует, что десегрегация «легче всего происходит в случае принудительного исполнения постановления» и что «большинство граждан принимают эту данность без особых протестов или беспорядков. Отчасти так происходит потому, что политика интеграции сообразуется с их собственной совестью (хотя и противоречит предрассудкам)».
Затем он делает следующий вывод:
В свете этой логики, вероятно, психологически было бы разумнее, если бы Верховный суд настоял на скорейшем исполнении своего постановления от 1954 года. Постановление о «тщательно продуманной скорости» не устанавливает обязательные сроки исполнения требований. Не согласован твердый и последовательный курс действий; руководство колеблется; контрдвижение процветает.
Если способность делать точные прогнозы служит важнейшим признаком объективности научного подхода к пониманию и регулированию естественных явлений, то в приведенном выше прогнозе Гордон Олпорт опять же демонстрирует, что социальные проблемы не находятся в противоречии с социальными науками и укрепляют их фундаментальность и востребованность.
Особенно четко Олпорт выражает эту мысль в обсуждении корней и проявлений человеческой враждебности, утверждая, что мы должны «эффективно использовать разум, чтобы держать под контролем свойственную ему деструктивность».
Тех из нас, кто находился под влиянием Гордона Олпорта и восхищался его интеллектом и спокойной уверенностью в том, что рациональный, познавательный и нравственный потенциал человека в конечном итоге станет противоядием от саморазрушительного невежества и суеверий, подкрепляет его убежденность в том, что когда-нибудь люди все-таки научатся эффективно управлять своими предрассудками. Пророческий оптимизм Олпорта о том, что наука может стать положительным ответом на борьбу за выживание человечества, прослеживается в его ироническом утверждении:
На раскрытие тайны атома ушли годы труда и миллиарды долларов. Еще больше инвестиций потребуется, чтобы раскрыть тайну иррациональной человеческой природы.
В русле традиций Гордона Олпорта и в память о нем неравнодушные социологи обязаны следить за тем, чтобы эти инвестиции непременно осуществлялись.
Кеннет Б. КларкНью-Йорк, январь 1979 г.
1 Судебный процесс закончился тем, что Верховный суд США признал раздельное обучение темнокожих и белых школьников противоречащим конституции. Это решение явилось важным событием в борьбе против расовой сегрегации в США. — Примеч. ред.
Предисловие Томаса Фрейзера Петтигрю
Гордон Олпорт был скромным человеком. Однако — сдержанно и даже застенчиво — он по праву гордился своим трудом «Природа предрассудков». Он занял почетное место в психологии за много лет до того, как принялся за его написание: работа «Личность: психологическая интерпретация», опубликованная в 1937 году, прочно утвердила его в ряду ведущих мировых теоретиков личности. Но именно книга о межгрупповых предубеждениях отразила самые глубинные опасения и ценности Олпорта, позволила перевести абстрактные воззрения в конкретные идеи реформ и социальных преобразований.
Этот выдающийся человек скончался в 1967 году в возрасте 70 лет. Будь Олпорт жив сегодня, он, несомненно, был бы рад переизданию «Природы предрассудков» в двадцать пятую годовщину выхода книги. И ему было бы приятно знать, как высоко оценивают интеллектуальную составляющую его труда спустя поколение.
Содержание, с которым вы скоро ознакомитесь, фактически систематизировало научное исследование такой важной проблемы, как предубеждения и предрассудки. «Природа предрассудков» очертила область исследования, сформулировала основные категории и проблемы и облекла их в широкие многогранные рамки, которые сохраняются по сей день. Книгу продолжают цитировать как наиболее авторитетное теоретическое исследование, она занимает законное место на книжной полке социолога как фундаментальный труд о предрассудках.
Недавние оценки подчеркивают непреходящую ценность этого труда. Кеннет Кларк поделился своим отзывом в своем вступительном слове. К его положительной оценке присоединяются еще два социальных психолога — М. Брюстер Смит и Эллиот Аронсон. Смит, президент Американской психологической ассоциации (как и сам Олпорт когда-то), зимой 1978 года написал в The New York University Education Quarterly:
Исчерпывающий труд Олпорта до сих пор вызывает интерес и требует прочтения. То, что казалось мудрым и рассудительным в 1954 году, по большей части представляется таковым и сегодня… Его всеобъемлющая непредубежденность, демократические ценности и забота о достоверности по-прежнему служат эталоном гуманистической проблемно-ориентированной социологии… От Олпорта мы продолжаем получать мудрое руководство в наших попытках сделать свои демократические устремления более человечными.
С ним соглашается Аронсон в выпуске журнала Human Nature за июль 1978 года:
Книга Гордона Олпорта предвосхитила и отразила настроения, которые легли в основу решения Верховного суда [по делу Брауна против Совета по образованию 1954 года]. «Природа предрассудков» — это яркое сочетание глубочайшего исследования и гуманистических ценностей. Олпорт собрал впечатляющее множество данных и четко и продуманно их упорядочил. Книга оказала влияние на целое поколение социальных психологов, и вполне заслуженно… Новизна этой книги заключается в подходе Олпорта: он внимательно исследовал все существовавшие на тот момент теории и данные, а затем блестяще и точно изложил разнообразные причины предрассудков и способы избавления от них… Это погружение в мир мудрости и науки. Олпорт избежал двойной ловушки — отстаивать одну позицию, пренебрегая остальными, или считать все позиции равнозначными.
Олпорт осознавал, что «Природа предрассудков» потребует переиздания, поскольку конкретные примеры, которые он приводит на протяжении всей книги, устареют. В конце концов, этот труд и его автор являются продуктом своего времени. На страницах первого издания книги разбираются преимущественно предубеждения белых протестантов в свете традиционной для Америки дискриминации черных, евреев и католиков. Стремительные и плачевные события последних 25 лет расширили взгляд на предрассудки, и два ученика Олпорта — Бернард Крамер из Массачусетского университета в Бостоне и я — постарались включить в новое издание книги последние научные разработки. Но конца этому не видно, хотя мы надеемся опубликовать переработанное издание в ближайшие годы. Оказалось, что не так-то просто переписывать классику. Но для читателя наша проблема — удача. Особенности, в силу которых эту книгу так сложно перерабатывать, делает особенно ценным опытом ее прочтение в том виде, в котором она была написана. «Природа предрассудков» как устойчивая парадигма исследований разнообразных предубеждений и широкомасштабное и точное изложение всего, что известно на эту тему, является основополагающей работой и заслуживает внимательного изучения.
Томас Фрейзер ПеттигрюГарвардский университетЯнварь 1979 года
Предисловие автора к изданию 1954 года
Цивилизованные люди научились управлять энергией, веществом и неодушевленной природой в целом. Мы ловко берем под контроль физические страдания и преждевременную смерть. Однако в том, что касается проблем человеческих отношений, мы как будто все еще живем в каменном веке. Недостаток социальных знаний шаг за шагом сводит на нет прогресс в знаниях физических. Избыток материальных благ, который накапливается человечеством благодаря естественным наукам, сводят на нет расходы на вооружение. Достижения медицинской науки в значительной степени перечеркиваются нищетой, причина которой — войны и торговые ограничения, подпитываемые в основном ненавистью и страхом.
В то время как мир в целом страдает от непрекращающейся борьбы конкурирующих идеологий Востока и Запада, каждый уголок нашей планеты несет свое особое бремя вражды. Мусульмане с подозрением относятся к немусульманам. Евреи, избежавшие уничтожения в Центральной Европе, оказались в новом государстве Израиль, со всех сторон окруженном антисемитизмом. Беженцы скитаются по землям, чуждым гостеприимства. Многие цветные люди по всему миру страдают от унижений со стороны белых, изобретающих замысловатые расистские доктрины в оправдание своего высокомерия. На шахматной доске предрассудков в Соединенных Штатах наблюдается, пожалуй, наиболее запутанная комбинация фигур. Это бесконечное противостояние базируется на реальном конфликте интересов лишь отчасти — мы предполагаем, что в основном оно является продуктом воображаемых страхов. Однако воображаемые страхи могут вызывать реальные страдания.
В соперничестве и ненависти между группами нет ничего нового. Новизна в том, что в силу технологий разные группы слишком сблизились для хоть сколько-нибудь комфортного сосуществования. Россия больше не далекая степная страна; она здесь. Соединенные Штаты больше не удалены от Старого Света; они здесь со своим Четвертым пунктом, фильмами, кока-колой и политическим влиянием. Народы, некогда надежно разделенные водными или горными преградами, теперь связывает авиация. Продукты современной эпохи — радио, самолеты, телевидение, воздушный десант, международные займы, послевоенная миграция, атомные взрывы, кинофильмы, туризм — перемешали разные человеческие группы. Мы еще не научились приспосабливаться к этой новой ментальной и моральной близости.
Однако ситуация не безнадежна. Главное в том, что человеческая природа в целом больше тяготеет к доброте и дружелюбию, чем к жестокости. Нормальные люди повсюду отвергают, в принципе или по выбору, путь войны и разрушения. Они предпочитают жить в мире и дружбе с соседями, любить и быть любимыми, а не служить объектами ненависти и ненавидеть. Жестокость не излюбленная человеческая черта. Даже высшие нацистские чиновники на Нюрнбергском процессе делали вид, что ничего не знали о зверствах в концентрационных лагерях. Они всячески преуменьшали свою роль, ведь им очень хотелось, чтобы к ним отнеслись как к людям. Бушуют войны, но мы жаждем мира, преобладает вражда, но человечество стремится к единству. Пока существует эта моральная дилемма, остается надежда, что она каким-то образом разрешится и что ценности, свободные от ненависти, смогут восторжествовать.
Особенно обнадеживает тот факт, что в последние годы многие люди убедились в том, что научные знания способны помочь нам разрешить это противоречие. Богословие всегда рассматривало разрыв между разрушительной природой человека и его идеалами как следствие первородного греха, который невозможно искупить. Каким бы весомым и многозначительным ни был этот постулат, недавно его дополнила убежденность в том, что человек может и должен использовать свой разум для искупления. Люди говорят: «Давайте проведем объективное исследование конфликтов в культуре и промышленности, между людьми разных цветов кожи и рас; давайте выявим корни предрассудков и найдем конкретные способы претворения аффилиативных ценностей в жизнь». После окончания Второй мировой войны в университетах многих стран этот новый подход получил различные академические наименования: социальная наука, человеческое развитие, социальная психология, человеческие отношения, социальные отношения. Эта новорожденная наука еще не стала официальной доктриной, но уже процветает. Она получила теплый прием не только в университетах, но и в государственных школах, в церквях, в прогрессивных отраслях промышленности и правительственных учреждениях, а также в международных организациях.
За последние десять-двадцать лет в этой сфере проведено больше фундаментальных и весьма познавательных исследований, чем за все предшествующие столетия вместе взятые. Безусловно, этические принципы человеческого поведения сформулированы тысячелетия назад в великих вероучениях человечества — все они объясняют и утверждают необходимость братства жителей Земли. Но эти вероучения сформулированы во времена пастухов и кочевников, в эпоху пастырей и разрозненных царств. Чтобы применять их в наш технический, атомный век, необходимо лучше разобраться в факторах, порождающих ненависть и нетерпимость. Раньше ошибочно считалось, что наука должна заниматься исключительно материальным прогрессом, оставляя человеческую природу и социальные взаимоотношения на откуп неконтролируемому нравственному чувству. Теперь мы знаем, что технический прогресс сам по себе создает больше проблем, чем решает.
Социальная наука не может ни наверстать упущенное в одночасье, ни быстро устранить разрушительные последствия ненаправленного развития технологий. На раскрытие тайны атома ушли годы труда и миллиарды долларов. Еще больше инвестиций потребуется, чтобы раскрыть тайну иррациональной человеческой природы. Кто-то сказал, что легче расщепить атом, чем уничтожить предрассудки. Тема человеческих отношений чрезвычайно широка. Работа над ней начинается с разных отправных точек и касается многих областей: семейной жизни, психического здоровья, производственных отношений, международных переговоров, воспитания гражданственности — и это лишь некоторые из них.
Этот труд не претендует на то, чтобы охватить всю науку о человеческих отношениях в целом. Его задача — прояснить одну из базовых проблем: природу наших предрассудков. Однако это основополагающий вопрос, ведь без понимания корней враждебности мы не сможем эффективно использовать разум для управления его деструктивной стороной.
Говоря о предрассудках, мы, скорее всего, в первую очередь подразумеваем расовые предубеждения. Это не самая удачная ассоциация, поскольку на всем протяжении человеческой истории предрассудки были мало связаны с этнической принадлежностью. Идея расы возникла едва ли больше столетия назад. До недавнего прошлого евреев преследовали главным образом за их вероучение, а не за происхождение. Негров поработили прежде всего как экономический актив, но обоснование этого приняло религиозную форму: язычники по своей природе, они считались потомками Ноева сына Хама, которых Ной проклял вечно быть «слугами слуг». Столь популярная сегодня концепция расы на самом деле является анахронизмом. Даже если когда-то ее можно было применять, вряд ли это сейчас это обоснованно из-за бесконечного смешения человеческих племен в результате перекрестных браков.
Почему же концепция расы обрела такую популярность? Во-первых, религия во многом утратила ревностное стремление обращать людей, а значит, и свою ценность для них как группы, к которой можно принадлежать. Более того, простота концепции расы давала немедленный и видимый знак, по которому можно было определять жертв неприязни. И вымышленная идея расовой неполноценности стала, как казалось, неопровержимым оправданием предрассудков. Она имела клеймо биологической завершенности и избавляла людей от необходимости изучать сложные экономические, культурные, политические и психологические аспекты, которые влияют на групповые отношения.
В большинстве случаев термин «этнический» предпочтительнее термина «расовый». Он подразумевает различные характеристики групп, которые в разных пропорциях могут быть физическими, национальными, культурными, лингвистическими, религиозными и идеологическими по своему типу. Это понятие, в отличие от определения «расовый», не подразумевает биологического единства, условия, которое в реальности редко присуще группам, являющимся объектом предубеждений. Верно, что термин «этнический» непросто применять по отношению к профессиональным, классовым, кастовым и политическим группам, а также к гендерным группам, которые также являются жертвами предрассудков.
К сожалению, лексикон для обозначения человеческих групп беден. До тех пор, пока общественные науки не предложат более совершенной классификации, мы не достигнем желаемой точности. Однако мы можем избегать ошибок и не использовать термин «раса» там, где он неприменим. Это, как настаивает антрополог Эшли-Монтегю, вредный и устаревший термин в социальных науках. Мы постараемся употреблять его только в ограниченных случаях, когда это необходимо. Для групп, отмеченных любой формой культурной сплоченности, мы будем применять термин «этнический», временами беря на себя грех чрезмерно перегрузить значение этого достаточно широкого понятия.
Серьезная ошибка — объяснять предрассудки и дискриминацию какой-то одной причиной, корни которой уходят в экономическую эксплуатацию, социальную структуру, традиции, страхи, агрессию, противостояние полов или любую другую благодатную почву. Предрассудки и дискриминация, как мы увидим, могут процветать при всех этих условиях, так же как и при многих других.
Если множественность причин — это важнейший урок, который мы хотим преподнести, читатель вправе задаться вопросом: не проявляет ли сам автор предвзятость как психолог? Воздает ли он должное сложным экономическим, культурным, историческим и ситуационным факторам? Не смещает ли он в силу профессиональной привычки акцент на роль обучения, когнитивных процессов и формирования личности?
Я действительно считаю, что исторические, культурные и экономические факторы эффективно взаимодействуют только в рамках личности как связующего звена. До тех пор, пока нравы не проникают в ткань индивидуального бытия, они не являются действующим началом, поскольку только индивидуумы могут чувствовать неприязнь и практиковать дискриминацию. Однако «причинность» — это широкое понятие; мы можем (и должны) признать и длительную социокультурную этиологию, и непосредственную причинно-следственную связь, которая заключается в установках индивида. Я попытался (особенно в главе 13) представить взвешенный взгляд на несколько уровней причинности, хотя особенную и конвергирующую роль я отвожу психологическим факторам. Если, несмотря на мои усилия, результат все еще кажется односторонним, я полагаю, критики укажут на эти недостатки.
Хотя исследования и примеры, рассматриваемые в этой работе, в большинстве своем позаимствованы из Соединенных Штатов, я надеюсь, что наш анализ динамики предрассудков имеет универсальную достоверность. Безусловно, предубеждения в разных странах проявляются по-разному: везде выбираются разные жертвы, отношение к физическому контакту с третируемыми группами различается, обвинения и стереотипы не одинаковы. Тем не менее имеющиеся у нас данные из других стран указывают на то, что основные причины и коррелирующие факторы предрассудков по сути идентичны. Гарднер Мерфи приходит к такому выводу на основе исследований межгрупповой напряженности в Индии, в связи с чем стоит упомянуть его книгу In the Minds of Men («В умах людей»). Выводы институтов Организации Объединенных Наций подтверждают такой взгляд. Кроме того, антропологические исследования, будь то посвященные практике колдовства, клановой лояльности или практикам ведения войны, позволяют предположить, что, хотя объекты и формы проявления предрассудков сильно различаются, динамика их возникновения во всех странах аналогична. И хотя на первый взгляд нет ничего опасного в том, чтобы руководствоваться этим предположением, мы все же не должны считать его окончательным. Будущие кросскультурные исследования, несомненно, продемонстрируют, что значимость и структура причинных факторов существенно различаются в разных регионах, и к текущим положениям нужно будет добавить другие важные причины.
Работая над книгой, я держал в голове две группы читателей, которым, я уверен, будет глубоко интересен ее предмет. Первая группа включает студентов колледжей и университетов из разных стран, которые проявляют все больший интерес к социальным и психологическим основам человеческого поведения в поисках научного руководства по улучшению межгрупповых отношений. Вторая группа — это более взрослая аудитория, обычные читатели, чьи интересы являются менее теоретическими и более практическими. Думая об этих двух группах, я выбрал довольно простую манеру изложения. Мне пришлось упростить некоторые спорные вопросы, но, надеюсь, не до такой степени, чтобы это каким-то образом смущало с научной точки зрения.
Исследования и теория в данной области развиваются так стремительно, что в каком-то смысле этот труд скоро устареет. Новые эксперименты придут на смену старым, формулировки различных теорий усовершенствуются. Однако у моей книги есть одна особенность, которая, я полагаю, будет иметь непреходящую ценность, а именно принцип ее организации. Я попытался предложить структуру, в которую можно будет легко встраивать будущие разработки.
Стремясь пролить свет на предрассудки в целом, я все же попытался показать (особенно в части VIII), как наши растущие знания можно применять для снижения межгрупповой напряженности. Согласно данным переписи, проведенной Американским советом по межрасовым отношениям несколько лет назад, 1350 организаций в Соединенных Штатах непосредственно работают над улучшением межгрупповых отношений. Степень успеха их деятельности все еще требует научной оценки и подробно рассматривается в главе 30. Было бы ошибкой заниматься чистой наукой, не проверяя выводы на практике. В то же время практикам нерационально вкладывать время и деньги в корректирующие программы, не имеющие серьезной научной поддержки. Для успешного развития науки о человеческих отношениях необходимо навести мосты между фундаментальными исследованиями и реальными проектами.
Большим стимулом к работе над этой книгой послужили, во-первых, семинар факультета социальных отношений в Гарварде и, во-вторых, ряд организаций, поддержавших работу материально и морально. Ценную помощь оказали Бостонский фонд Мозеса Кимбалла, Комиссия по взаимоотношениям между общинами Американского Еврейского конгресса и других дружественных членов конгресса, Национальная конференция христиан и евреев, Лаборатория социальных отношений в Гарварде и Исследовательский центр, которым руководит мой коллега, профессор П.А. Сорокин. Их поддержка позволила провести некоторые исследования, описанные на страницах этой книги, а также проанализировать растущий корпус литературы в этой сфере. Я глубоко благодарен им за великодушие и поддержку.
Содержание и форму изложения в конечном счете определил увлеченный и неутомимый труд моих студентов на постоянно действующем семинаре «Групповые конфликты и предрассудки». В ходе семинара я в разное время прибегал к помощи своих коллег: Талкотта Парсонса, Оскара Хэндлина и Дэниела Дж. Левинсона. Полагаю, их влияние очевидно. Помощь в исследованиях мне также оказали Бернард М. Крамер, Жаклин Ю. Саттон, Герберт С. Карон, Леон Дж. Камин и Натан Альтшулер. Они предоставили полезные материалы и внесли важные предложения. За чтение отдельных частей рукописи и ценную критику я благодарю Стюарта У. Кука, авторитетного американского исследователя этой области, а также Джорджа В. Коэльо и Хью У.С. Филпа, которые помогли взглянуть на исследование с позиции других стран. Я выражаю признательность всем своим великодушным помощникам и особенно Элеонор Д. Спрэгью, которая мастерски руководила этим проектом на каждом его этапе.
Гордон У. ОлпортСентябрь 1953 года
Предисловие автора к изданию 1958 года
Вскоре после первого издания этой книги, в мае 1954 года Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что сегрегация в государственных школах страны противоречит конституции. В постановлении от мая 1955 года предписывалось провести десегрегацию «с тщательно продуманной скоростью».
Этот исторический акт получил мировое признание, но вызвал недовольство многих людей из американских южных штатов. В настоящее время по меньшей мере семь штатов продолжают роптать и массово сопротивляются указу. Кризис 1957 года в Литл-Роке усугубил неразрешимое противоречие между федеральной и местной властью. Внутренние и международные последствия этого конституционного кризиса вызывают у нас серьезную озабоченность.
В контексте этой книги я позволю себе сделать два комментария по поводу сложившейся ситуации. В главах 16, 29 и 31 продемонстрировано, что в нашей стране расовая интеграция (в сфере занятости, вооруженных силах, школах) происходит легче всего, когда поступает строгий приказ исполнительной власти. Как показывает опыт, большинство граждан принимают эту данность без особых протестов или беспорядков. Отчасти так происходит потому, что политика интеграции сообразуется с их собственной совестью (хотя и противоречит предубеждениям). Отчасти быстрые изменения принимаются потому, что у противостоящих сил нет времени мобилизоваться и начать контрдвижение.
В свете этой логики, вероятно, психологически было бы разумнее, если бы Верховный суд настоял на «скорейшем» исполнении своего постановления от 1954 года. Постановление о «тщательно продуманной скорости» не устанавливает каких-либо четких сроков. Как показали дальнейшие события, задержка дала время для формирования гражданских советов, агитаторских кампаний и, что хуже всего, для появления ожесточенных разногласий между органами власти, играющими стратегически важную роль в системе правопринуждения (в числе которых школьные советы, мэры, окружные суды, законодательные собрания, губернаторы штатов и вашингтонские чиновники). Не согласован твердый и последовательный курс действий; руководство колеблется; контрдвижение процветает. Мы не можем сказать, смогла бы администрация добиться успеха при воплощении столь сложного проекта по всему Югу в течение года или двух после первоначального решения. Но мы, по крайней мере, можем объяснить плачевные результаты, к которым привели нерешительность и промедление.
Теперь, после принятия политики постепенного проведения реформ, мы хотели бы подчеркнуть важность интегрированного образования с раннего детства. В части V этого труда мы прослеживаем формирование предрассудков именно в этом возрасте. Маленькие дети полностью свободны от расовых предубеждений и легко приспосабливаются друг к другу, если учатся вместе в начальных классах. К окончанию средней школы молодые люди формируют подростковые группы и болезненно воспринимают вторжение чужаков; они перенимают предрассудки старших и, что хуже всего, начинают разделять самое трудноустранимое предубеждение — боязнь смешанных браков. Поэтому, если мы можем действовать постепенно, вероятно, процесс интеграции разумнее было бы начинать уже в начальной, а не средней школе.
Неутешительное состояние нашего общества можно рассматривать как провал психологической стратегии. Но отчасти это просто неизбежное следствие вновь пробудившихся предрассудков. Сегрегационный жизненный уклад, безусловно, теряет свои позиции на юге США, но принуждение к скорейшей реализации постановления толкает сохраняющиеся предубеждения на последнюю битву за самосохранение. Чтобы читатель не пришел к выводу, что сегрегация в школах может со временем исчезнуть сама собой без каких-либо судебных постановлений, мы должны напомнить ему, что тенденция к десегрегации в последние три десятилетия возникла в результате принятия целого ряда конституционных решений, которые касались транспортных средств, голосования, высшего образования и других областей гражданских прав. Юридические стимулы необходимы.
Два фактора позволяют надеяться на благоприятный выход из сегодняшнего тупика. Во-первых, мы замечаем, что многие пограничные штаты и сообщества сумели создать интегрированные школы, столкнувшись с минимумом неудобств или беспорядков. Во-вторых, даже самые несговорчивые регионы, кажется, не стремятся прибегать к насилию или открыто отстаивать «превосходство белых». Почетно выступать за «права штатов», но не за то, чтобы «поставить ниггеров на место». Нравы меняются. Случаи линчевания в настоящее время практически неизвестны. Недавние исследования показывают, что многие люди, живущие южных штатах, не являются ксенофобами до глубины души. Скорее они придерживаются устоявшегося уклада. По мере того как меняется уклад, они с такой же готовностью станут придерживаться новых моделей поведения.
Недавно у меня появилась возможность изучать расовые проблемы из первых рук в Южно-Африканской Республике. Государственная политика в этой стране твердо направлена на усиление сегрегации (апартеид). Таким образом, ее официальные этические принципы прямо противоположны официальной морали Соединенных Штатов. Народы Африки и Азии знают об этом факте и внимательно следят за результатами двух противоположных стратегий. Несмотря на этические и юридические различия, мне кажется, содержание этой книги одинаково применимо к ситуации в обеих странах. Во всяком случае, я бы, основываясь на опыте, полученном мною в ЮАР, уделил особое внимание разделам книги, посвященным конформизму и социокультурным факторам предрассудков (часть IV).
Гордон У. Олпорт
Часть I. Избирательное мышление
Глава 1. В чем проблема?
Два примера — Определение — Предрассудки — это ценностная концепция? — Функциональное значение — Установки и убеждения — Проявления предрассудков
Я, человек сугубо практический и прикованный к сфере своей деятельности, признаюсь, что действительно чувствую человеческие различия, национальные и индивидуальные… Говоря попросту, я клубок предрассудков, свитый из расположений и неприязней, — истинный раб симпатий, апатий, антипатий.
Чарльз Лэм
В Родезии белый водитель, проезжая мимо группы отдыхающих туземцев, пробормотал: «Ленивые скоты». Несколько часов спустя он увидел, как туземцы затаскивают в грузовик двухсотфунтовые мешки с зерном, напевая в такт работе. «Дикари, — проворчал он. — Чего от них ждать?»
В одной из Вест-Индий у туземцев какое-то время было принято демонстративно зажимать нос всякий раз, когда на улице им встречался американец. А в Англии во время войны говорили: «Единственная проблема янки в том, что они помешаны на сексе и их слишком много».
Поляки часто называли украинцев «гадами», выражая тем самым свое презрение к группе людей, которые казались им неблагодарными, мстительными, коварными и вероломными. В то же время немцы именовали своих восточных соседей «польским скотом». Поляки в ответ обзывали их «прусскими свиньями», считая немцев неотесанными и бесчестными.
В Южной Африке говорят: англичане против африканеров2, и те и другие — против евреев, все они — против индийцев, а вместе с индийцами — против коренных чернокожих.
В Бостоне высокопоставленный представитель Римско-католической церкви ехал по пустынной дороге на окраине города. Увидев бредущего по улице негритенка, он велел шоферу остановиться и предложил подвезти его. Они сидели вместе на заднем сиденье лимузина, и священнослужитель, чтобы завязать разговор, спросил: «Мальчик, ты католик?» Округлив глаза, тот ответил: «Нет, сэр, быть цветным и без того плохо».
На просьбу рассказать, что китайцы думают об американцах, один китайский студент неохотно ответил: «Ну, мы считаем их лучшими из заморских дьяволов». Этот было до коммунистической революции в Китае. Современную китайскую молодежь учат считать американцев худшими из заморских дьяволов.
В Венгрии говорят: «Антисемит — это человек, который ненавидит евреев больше, чем это безусловно необходимо».
На земле нет ни единого уголка, свободного от межгрупповых насмешек и пренебрежения. Накрепко связанные со своими культурами, мы, подобно Чарльзу Лэму, несем в себе целые клубки предрассудков.
Два примера
У антрополога лет тридцати пяти было двое маленьких детей, Сьюзен и Том. В силу профессиональной необходимости он должен был прожить год в племени американских индейцев в доме одной гостеприимной семьи аборигенов. Однако он настоял на том, чтобы его сын и дочь остановились в поселении белых людей, расположенном в нескольких милях от индейской резервации. Он редко позволял Тому и Сьюзен приезжать в деревню племени, хотя им очень этого хотелось. В тех редких случаях, когда они приходили в гости, он строго-настрого запрещал им играть с индейскими детьми.
Некоторые, в том числе индейцы, жаловались, что антрополог не соблюдает кодекс своей профессии и демонстрирует расовые предрассудки. Но дело было вовсе не в этом. Ученый знал, что в деревне племени широко распространен туберкулез и четверо малышей в семье, где он жил, умерли от этой болезни. Вероятность заражения его собственных детей при частых контактах с коренными жителями была бы слишком высока. Здравый смысл подсказывал ему, что рисковать не следует. В данном случае этническое избегание имело рациональные и реалистичные основания. В нем не было никакого антагонизма. Антрополог в целом не испытывал негатива по отношению к индейцам. На самом деле он глубоко им симпатизировал.
Поскольку этот пример не показывает, что мы подразумеваем под расовыми или этническими предрассудками, давайте обратимся к другому.
В начале летнего сезона две газеты Торонто разместили рекламные объявления примерно ста различных курортов. Канадский социолог С.Л. Вакс провел интересный эксперимент[1]3. В каждый из отелей и здравниц он написал по два письма, отправив их в одно и то же время и попросив забронировать номера на одни и те же даты. Одно письмо он подписал именем мистер Гринберг, другое — мистер Локвуд.
Мистеру Гринбергу ответили 52 % заведений и 36 % предложили размещение. Мистеру Локвуду ответили 95 % заведений и 93 % предложили размещение.
Таким образом, почти все курорты с готовностью откликнулись на письмо и просьбу мистера Локвуда, но почти половина из них не удостоила мистера Гринберга ответа и лишь немногим более трети были готовы принять его в качестве гостя.
Ни один из отелей не знал ни «мистера Локвуда», ни «мистера Гринберга». В их представлении «мистер Гринберг» мог быть спокойным порядочным джентльменом, а «мистер Локвуд» дебоширом и пьяницей. Очевидно, что решение было принято не на основании каких-либо достоинств личности, а потому, что «мистер Гринберг» воспринимался как представитель определенной этнической группы. Он столкнулся с нелюбезностью и изоляцией исключительно из-за своего имени, которое вызвало у менеджеров отеля предвзятое отношение и нежелание его принимать.
В отличие от нашего первого примера, в этом отражаются два основных компонента этнических предрассудков:
1. Наличие определенной враждебности и неприязни. Бо́льшая часть отелей не хотела иметь ничего общего с «мистером Гринбергом».
2. Категоричное основание для отказа. «Мистер Гринберг» оценивался не как личность. Скорее всего, его забраковали на основании его предполагаемой принадлежности к группе.
Внимательный исследователь на этом этапе мог бы задаться вопросом, в чем заключается принципиальная разница «категорического отказа» в примерах с антропологом и отелями? Разве антрополог не исходил из высокой вероятности заражения, предпочитая из соображений безопасности избегать контактов его детей с индейцами? И разве владельцы отелей не исходили из высокой вероятности того, что в силу этнической принадлежности мистер Гринберг может оказаться нежелательным гостем? Антрополог знал, что туберкулезная инфекция свирепствует повсюду; но ведь и владельцы гостиниц могли знать, что «евреи — порочны, и рисковать не следует»?
Это логичный вопрос. Если бы владельцы гостиниц основывали свой отказ на фактах (точнее, на высокой вероятности того, что данный еврей обладает нежелательными чертами характера), их действия были бы столь же рациональными и оправданными, как и поступок антрополога. Но мы с уверенностью можем сказать, что это не так.
Некоторые управляющие, возможно, никогда не имели неприятного опыта общения с еврейскими гостями — такая ситуация кажется особенно вероятной в свете того, что во многих случаях иудеев просто не принимали в отелях. Или, если у них был такой опыт, они не сопоставляли его частоту с неприятными инцидентами с гостями-неевреями. Они определенно не обращались к научным исследованиям, в которых рассматривается относительный процент положительных и отрицательных черт характера у евреев и неевреев. Если бы им нужны были фактические обоснования своего неприятия, они бы их не нашли, как мы узнаем из главы 6.
Конечно, не исключено, что сам управляющий был свободен от личных предрассудков, но даже в этом случае он принимал во внимание антисемитизм своих гостей-неевреев. Как бы то ни было, суть ясна.
Определение
Английское слово «предрассудок» — prejudice, — происходящее от латинского существительного praejudicium, как и многие другие слова, изменило свое значение со времен античной классики. Можно выделить три этапа этой трансформации[2].
I. Для древних praejudicium означало прецедент — суждение, основанное на предыдущих решениях и опыте.
II. Позже это понятие в английском языке приобрело значение убеждения, сформированного до надлежащего рассмотрения фактов, и стало означать преждевременное или поспешное суждение.
III. Наконец, термин приобрел свой нынешний эмоциональный оттенок благоприятного или неблагоприятного отношения, которое сопутствует априорному и ничем не подкрепленному суждению.
Пожалуй, кратчайшим из всех определений предрассудков можно считать следующее: «думать плохо о других без достаточных оснований»[3]. В эту четкую формулировку входит два основных аспекта всех определений — отсылки к необоснованному суждению и чувствам. Однако оно слишком кратко для полной ясности.
Прежде всего, оно относится только к негативным предрассудкам. Люди также могут быть предвзяты, думая о других хорошо без достаточных оснований. Формулировка, предлагаемая Новым словарем английского языка, отражает как положительные, так и отрицательные предрассудки: «чувство, благоприятное или неблагоприятное, по отношению к человеку или объекту, сложившееся заранее, а не на основе реального опыта».
Безусловно, важно учитывать, что предрассудки могут быть как положительными, так и отрицательными. Тем не менее этнические предрассудки в большинстве своем негативны. Одну группу студентов попросили описать их отношение к разным этносам. Никаких намеков, которые могли бы навести их на негативную реакцию, не высказывалось. Однако они назвали в восемь раз больше негативных установок, чем позитивных. Соответственно, в этой работе нас будут интересовать главным образом предубеждения против этнических групп, а не предубеждения в их пользу.
Фраза «плохо думать о других» довольно расплывчата и очевидно должна подразумевать такие чувства, как презрение и неприязнь, страх и отвращение, а также различные виды проявления антипатии: например, негативные высказывания о людях, дискриминацию по отношению к ним или насильственное нападение.
Подобным же образом нам необходимо расширить формулировку понятия «без достаточных оснований». Суждение необоснованно всякий раз, когда оно не опирается на факты. Остряки определяют предрассудки как «придирки к тому, в чем вы не разбираетесь».
Сложно сказать, сколько фактов требуется для того, чтобы считать то или иное суждение оправданным. Предвзятый человек почти наверняка заявит, что у него есть достаточные основания для своих взглядов. Он расскажет о горьком опыте общения с беженцами, католиками или выходцами с Востока. Но в большинстве случаев очевидно, что его факты необъективны и их недостаточно. Он выборочно отбирает свои немногочисленные воспоминания, смешивает их со слухами и чрезмерно обобщает. Никто не может знать всех беженцев, католиков или выходцев с Востока. Следовательно, любое негативное суждение об этих группах в целом является, строго говоря, примером негативного представления о других без достаточных оснований.
Иногда человек, который думает плохо о других, не имеет личного опыта, который обосновывал бы его предубеждения. Несколько лет назад американцы в большинстве своем крайне плохо относились к туркам, но мало кто из них когда-либо видел турка или знал бы хоть одного человека, видевшего его. Они оправдывали свое отношение исключительно тем, что слышали о массовых убийствах армян и легендарной священной войне. На основании этих свидетельств они считали допустимым осуждать весь этот народ.
Обычно предрассудки проявляются в общении с отдельными представителями отвергаемых групп. Но, избегая соседа-негра или отвечая на просьбу «мистера Гринберга» о номере в гостинице, мы руководствуемся категорическим обобщением группы в целом. Мы почти или совсем не обращаем внимания на индивидуальные различия и упускаем из виду тот важный факт, что негр X (наш сосед) — это не негр Y, которого мы недолюбливаем по уважительной причине; что мистер Гринберг, который может быть истинным джентльменом, вовсе не мистер Блум, которого мы терпеть не можем, имея на то веские основания.
Это настолько распространенное явление, что мы могли бы определить предрассудок как неприязненное или враждебное отношение к человеку, который принадлежит к некой группе, просто потому, что он принадлежит к этой группе, а значит, как предполагается, обладает негативными качествами, приписываемыми группе. Это определение подчеркивает тот факт, что, хотя этнические предубеждения в повседневной жизни обычно касаются отдельных людей, они также влекут за собой необоснованное представление о группе в целом.
Возвращаясь к вопросу о «достаточном обосновании», следует признать, что лишь немногие — если таковые вообще имеются — человеческие суждения полностью основаны на несомненных фактах. Мы можем с уверенностью, но не абсолютной, утверждать, что завтра взойдет солнце и что в конечном счете нам не избежать смерти и налогов. Достаточность обоснования любого суждения — это всегда вопрос вероятности. Как правило, наши представления о природных явлениях основаны на более солидных и более вероятных данных, чем мнение о людях. Лишь в редких случаях наши категорические суждения о народах или этнических группах имеют под собой весомое основание.
Взять, например, враждебное отношение к нацистским лидерам, которое разделяло большинство американцев во время Второй мировой войны. Было ли оно предвзятым? Нет, поскольку имелось множество доступных свидетельств о жестокой политике и практиках, официально принятых партией. Возможно, в партии могли быть хорошие люди, которые в глубине души отвергали чудовищную идеологию; но вероятность того, что нацистская группировка представляет действительную, не выдуманную, угрозу миру и гуманистическим ценностям, была настолько высока, что в результате возникло твердое и оправданное противостояние. Высокая вероятность опасности переводит антагонизм из области предрассудков в область реального социального конфликта.
В случае с гангстерами наш антагонизм также не является вопросом предрассудков, поскольку доказательства их антиобщественного поведения неопровержимы. Но далее провести черту становится все труднее. Как быть с бывшими заключенными? Общеизвестно, что бывшим заключенным трудно найти постоянную работу, которая позволит им обеспечивать себя, не теряя самоуважения. Естественно, работодатели с подозрением относятся к людям с подобным прошлым. Но часто их подозрительность выше, чем того требуют факты. При более внимательном рассмотрении они могут узнать, что стоящий перед ними соискатель полностью исправился или даже изначально был несправедливо обвинен. Решение закрыть дверь перед человеком по причине его криминального прошлого имеет под собой некоторые вероятностные обоснования, ведь многие заключенные не исправляются; но в этом есть и элемент необоснованного предубеждения. Здесь мы имеем дело с настоящим пограничным случаем.
Вряд ли мы когда-либо сможем провести четкую грань между «достаточным» и «недостаточным» обоснованием. По этой причине не всегда можно быть уверенными в том, имеем ли мы дело с предрассудком или нет. И все же вряд ли кто-то будет отрицать, что часто мы формируем суждения на основе скудных, даже несуществующих вероятностей.
Избыточная категоризация — это, пожалуй, самая распространенная уловка человеческого разума. Имея фактов с наперсток, мы спешим делать обобщения размером с ведро. Один мальчик под впечатлением от саги об исполине Имире решил, что все норвежцы — великаны, и долгие годы боялся встретиться лицом к лицу с живым норвежцем. Другой человек лично был знаком с тремя англичанами и утверждал, что все британцы обладают качествами, которые он наблюдал у этих троих.
Такая тенденция имеет под собой вполне естественное основание. Жизнь так коротка, а требования к практическому приспособлению к ней так велики, что мы не можем позволить непониманию отвлекать нас от повседневных дел. Нам приходится классифицировать объекты и решать, хороши они или плохи. Мы не можем оценивать все на свете объекты. Для этого подходят наспех составленные категории, какими бы грубыми или широкими они ни были.
Не все чрезмерные обобщения являются предрассудками. Некоторые из них — просто неправильные представления, в которых мы систематизируем неверную информацию. Один ребенок считал, что Миннеаполис населяют исключительно «монополисты». От своего отца он знал, что монополисты — люди нехорошие. Когда в последующие годы он обнаружил эту путаницу, его неприязнь к жителям Миннеаполиса исчезла.
У нас есть тест, который помогает отличить обычную предвзятость от предрассудка. Если человек может исправить свои ошибочные суждения в свете новых фактов, значит, он не предубежден. Предвзятости становятся предрассудками только в том случае, если они не меняются под воздействием новых знаний. Предрассудок, в отличие он обычной предвзятости, активно сопротивляется всем доказательствам, способным его опровергнуть. Когда нашему предубеждению угрожает некое противоречие, мы склонны реагировать эмоционально. Таким образом, разница между обычной предвзятостью и предрассудком заключается в том, что предвзятость можно обсуждать и исправлять без эмоционального сопротивления.
Принимая во внимание эти соображения, мы можем попытаться дать окончательное определение негативных этнических предрассудков, к которому будем обращаться на протяжении всей книги. Каждая фраза определения в предельно сжатом виде отражает те моменты, которые мы обсудили.
Этнические предрассудки — это антипатия, основанная на ошибочном и негибком обобщении. Она может ощущаться и выражаться. Она может быть направлена на группу в целом или на отдельного человека, потому что он является членом этой группы.
Конечный эффект предрассудка, определенного таким образом, заключается в том, чтобы поставить его объект в незаслуженно невыгодное положение.
Предрассудки — это ценностная концепция?
Некоторые авторы включают в определение предрассудков дополнительную составляющую. Они утверждают, что отношение является предубежденным только в том случае, если оно нарушает какие-либо важные нормы и ценности, принятые в культуре[4]. Они настаивают, что предрассудки — это тип предвзятого отношения, которое не одобряется обществом с точки зрения этики.
Как показал один эксперимент, этот термин в обычном употреблении действительно имеет подобный оттенок. Нескольким экспертам предложили оценить утверждения, сделанные учащимися девятого класса, и распределить их по категориям в соответствии со степенью представленных в них «предрассудков». Оказалось, что любые высказывания мальчиков против девочек не считались предрассудками, поскольку выражение пренебрежения подростками к противоположному полу считается нормой. Негативные высказывания учащихся об учителях тоже не расценивались как предрассудки. Подобное неприятие тоже восприняли как естественное для такого возраста и социально незначимое. Но враждебные высказывания детей в адрес профсоюзов, социальных классов, рас или национальностей чаще классифицировались как «предрассудки»[5].
Короче говоря, на мнение экспертов повлияла социальная значимость несправедливого отношения. Пятнадцатилетний юноша, который «пренебрегает» девочками, не считается предубежденным в отличие от того, кто «пренебрегает» представителями других национальностей.
Если использовать данный термин в этом смысле, следовало бы признать, что старая кастовая система в Индии, которая сейчас разрушается, не содержала в себе никаких предрассудков. Это было просто удобное социальное расслоение, приемлемое почти для всех граждан, поскольку оно обосновывало разделение труда и определяло социальные привилегии. На протяжении веков эта система устраивала даже неприкасаемых, поскольку в силу религиозной доктрины реинкарнации казалась совершенно справедливой. Неприкасаемых считали изгоями, потому что в предыдущих жизнях они не заслужили перехода в высшую касту или бессмертного существования. Они несли справедливое наказание и имели возможность вести праведную и духовную жизнь, чтобы в будущем получить более благоприятное перерождение. Учитывая, что представление о справедливости кастовой системы долгое время было характерно для индуистского общества, можем ли мы в ее контексте говорить о предрассудках?
Или возьмем систему гетто. На протяжении многих веков евреи жили в особых зонах, иногда расположенных цепочкой по всему региону. Только внутри этих зон они имели право свободно перемещаться. Преимуществом такого устройства было предупреждение конфликтов, и евреи, зная свое место, могли планировать жизнь с известной долей определенности и комфорта. Можно было бы утверждать, что они были в большей безопасности и их судьба была гораздо более предсказуемой, чем в современном мире. В истории были периоды, когда ни евреи, ни неевреи не испытывали особого возмущения по отношению к такой системе. Отсутствовали ли тогда предрассудки?
С предубеждением ли относились древние греки (или первые американские плантаторы) к наследственному классу рабов? Конечно, они смотрели на них свысока и, несомненно, придерживались ошибочных теорий об их врожденной неполноценности и «животноподобном» интеллекте; но все это казалось таким естественным, удобным и правильным, что никакой моральной дилеммы не возникало. Даже сегодня в некоторых штатах выработан некий modus vivendi, схема сосуществования белых и цветных людей. Установлен ритуал отношений, и большинство не задумываясь подчиняются реалиям социальной структуры. Поскольку они просто соблюдают устоявшиеся обычаи, они отрицают свою предубежденность. Негры просто знают свое место, а белые — свое. Должны ли мы в таком случае вслед за некоторыми авторами утверждать, что предрассудки появляются только тогда, когда люди ведут себя более высокомерно, более агрессивно, чем предписывает их культура? Следует ли рассматривать предрассудки всего лишь как отклонение от общепринятой практики?[6]
Среди индейцев навахо, как и во многих других сообществах на земле, существует вера в колдовство. Тех, кого обвиняют в колдовстве, откровенно избегают или строго наказывают, руководствуясь распространенным представлением о темных силах. Здесь, как и в предыдущих примерах, сочетаются все условия, определяющие предубеждение, но мало кто из представителей народа навахо считает этот вопрос этической проблемой. Если неприятие колдовства является общепринятым обычаем и в обществе не осуждается, можно ли назвать его предрассудком?
Что можно сказать о такой аргументации? На некоторых критиков она произвела такое впечатление, что они стали считать вопрос о предрассудках не более чем оценочной категорией, изобретенной «либеральными интеллектуалами». Когда либералы не одобряют нравы, они называют их предрассудками. Между тем они должны руководствоваться не субъективным моральным негодованием, а ориентироваться на идеалы культуры. Если конфликт присущ самой культуре, которая постулирует более высокие стандарты поведения, чем практикуют многие ее представители, тогда мы можем говорить о существующих в ней предрассудках. Предрассудки — это моральная оценка, которую культура выставляет некоторым существующим в ней практикам. Это обозначение взглядов, которые не одобряются.
По-видимому, такие критики смешивают две разные проблемы. Предрассудки в простом психологическом смысле — негативные, чрезмерно обобщенные суждения — существуют как в кастовых, рабовладельческих сообществах или культурах с верой в колдовство, так и в этически более сложных коллективах. К тому же сопровождаются ли предубеждения чувством морального негодования или нет — это вообще отдельный вопрос.
Безусловно, в странах с христианскими и демократическими традициями к этническим предрассудкам относятся с неодобрением чаще, чем в странах без таких этических норм. И, пожалуй, «либеральных интеллектуалов» эта проблема затрагивает эмоционально чаще, чем большинство других людей.
Тем не менее ничто не оправдывает смешивание объективных фактов предрассудков с культурным или этическим суждением об этих фактах. Негативная коннотация этого понятия не должна вводить нас в заблуждение и наводить на мысль, что оно является исключительно оценочным суждением. Возьмем, к примеру, слово «эпидемия». Оно ассоциируется с чем-то неприятным. Без сомнения, Пастер, великий победитель эпидемий, ненавидел их. Но его оценочное суждение ни в малейшей степени не влияло на объективные факты, которыми он так успешно оперировал. Термин «сифилис» в нашей культуре тоже имеет оттенок осуждения. Но эта эмоциональная окраска никак не влияет на действия спирохеты в человеческом организме.
Одни культуры, такие как западная, негативно отзываются о предрассудках, другие — нет, но фундаментальный психологический анализ предубеждений одинаков, идет ли речь об индийцах, навахо, древних греках или жителях американского Миддлтауна. Всякий раз, когда негативное отношение к людям поддерживается ложным чрезмерным обобщением, мы сталкиваемся с синдромом предрассудка. Люди не всегда его отвергали. Он существовал во все времена и во всех странах. Он представляет собой настоящую психологическую проблему. Степень морального негодования, которое он вызывает, значения не имеет.
Функциональное значение
Некоторые определения предрассудков включают в себя еще один дополнительный компонент. Вот пример.
Предрассудки — это враждебная модель в межличностных отношениях, направленная против целой группы людей или отдельных ее представителей; для своего носителя она выполняет особую иррациональную функцию[7].
Заключительная фраза этого определения подразумевает, что негативные установки не являются предрассудками, если они не служат личной цели и не приносят удовлетворения человеку, который ими обладает.
В последующих главах будет со всей очевидностью показано, что многие предрассудки действительно формируются и поддерживаются с целью самоудовлетворения. В большинстве случаев предубеждение, по-видимому, имеет некоторое «функциональное значение» для носителя. Однако это не всегда так. Большая часть предрассудков — это вопрос слепого соответствия господствующим нравам. Некоторые из них, как будет показано в главе 17, не имеют существенного отношения к жизни отдельного человека. По этой причине, пожалуй, нелогично настаивать на том, чтобы включать «иррациональную функцию» предрассудков в наше основное определение.
Установки и убеждения
Мы уже упоминали, что объективное определение предрассудков содержит два важных компонента. Оно должно включать в себя благоприятное или неблагоприятное отношение, а также быть связанным с чрезмерно обобщенным (и следовательно, ошибочным) убеждением. Предвзятые утверждения иногда выражают фактор отношения, иногда фактор убеждения. В приведенном ниже списке первое утверждение выражает отношение, второе — убеждение:
Я терпеть не могу негров.
Негры вонючие.
Я бы не стал жить в многоквартирном доме с евреями.
За некоторыми исключениями все евреи в целом почти одинаковы.
Я не хочу, чтобы американцы японского происхождения жили в моем городе.
Американцы японского происхождения хитры и изворотливы.
Важно ли проводить различие между двумя этими аспектами предрассудков — отношением и убеждением? Далеко не всегда. Когда мы находим одно, с ним обычно соседствует и другое. Без определенных обобщенных убеждений о группе в целом враждебное отношение долго не продержится. Современные исследования показывают, что люди, которые испытывают к кому-то негативные эмоции, также в высокой степени верят в то, что группы, к которым они относятся с предубеждением, имеют множество неприятных качеств[8].
Но для некоторых целей полезно отличать отношение от убеждения. Например, в главе 30 мы увидим, что определенные программы, направленные на сокращение предрассудков, успешно помогают менять убеждения, но не отношение. Убеждения в некоторой степени можно рационально опровергнуть и изменить. Но они каким-то неуловимым образом связаны с негативным отношением, которое гораздо сложнее исправить. Следующий диалог прекрасно иллюстрирует этот момент.
Мистер X: Проблема c евреями в том, что они заботятся только о своих.
Мистер Y: Но в отчете благотворительного фонда говорится, что они в целом больше жертвуют на общественные цели, чем неевреи.
Мистер X: Это показывает, что они всегда пытаются купить благосклонность и вторгнуться в дела христиан. Они не думают ни о чем, кроме денег, вот почему среди банкиров так много евреев.
Мистер Y: Но недавнее исследование показывает, что процент евреев в банковской сфере ничтожен, намного меньше, чем процент неевреев.
Мистер X: В том-то и дело, что они не занимаются честным трудом; они либо в кинобизнесе, либо управляют ночными клубами.
Таким образом, система убеждений обладает способностью изворачиваться, чтобы оправдывать устоявшееся отношение. Это процесс рационализации — приспособления убеждений к отношению.
Следует помнить об этих двух аспектах предрассудков, когда при дальнейшем обсуждении у нас будет возможность проводить это различие. Но если эти аспекты отдельно не проговариваются, понятие «предрассудки» будет подразумевать и отношение, и убеждения.
Проявления предрассудков
Поступки людей по отношению к группам, которые им не нравятся, не всегда напрямую связаны с тем, что они думают или чувствуют. Например, два работодателя могут в равной степени не любить евреев. Один может держать свои чувства при себе и нанимать евреев на тех же основаниях, что и любых других работников — возможно, для того чтобы добиться расположения еврейской общины к своей фабрике или магазину. Другой может облечь свою неприязнь в политику трудоустройства и отказаться нанимать евреев. Оба они предубеждены, но только один из них практикует дискриминацию. Как правило, дискриминация имеет более непосредственные и серьезные социальные последствия, чем предрассудки.
Любое негативное отношение действительно имеет тенденцию проявляться в поступках. Мало кто держит свои антипатии полностью при себе. Чем напряженнее отношение, тем выше вероятность того, что оно приведет к активной агрессии.
Можно классифицировать негативные действия от наименее до наиболее интенсивных.
1. Антилокуция. Большинство людей, у которых есть предрассудки, высказывают их. Они могут свободно выражать свою неприязнь в общении с друзьями-единомышленниками, а порой и с незнакомыми людьми. Однако многие никогда не выходят за рамки умеренной степени антипатического поведения.
2. Избегание. Более сильные предрассудки заставляют индивида избегать членов недолюбливаемой им группы, возможно, даже ценой значительных неудобств. В этом случае предубежденный человек не причиняет прямого вреда группе, которая ему не нравится. Он приспосабливается и полностью берет бремя изоляции на себя.
3. Дискриминация. Предубежденный человек претворяет негативное отношение в действия. Он стремится лишить всех членов группы определенных видов занятости, постоянного жилья, политических прав, возможностей отдыха или получения образования, права ходить в церковь, обращаться в больницу или каких-либо других социальных привилегий. Сегрегация — это институционализированная форма дискриминации, осуществляемая юридически или в соответствии с обычаем[9].
4. Физическое насилие. В условиях повышенной эмоциональности предрассудки зачастую приводят к актам насилия или полунасилия. Негритянскую семью, соседства с которой не желают, могут изгнать из района или запугиванием вынудить к переезду. Надгробия на еврейских кладбищах оскверняют. Между итальянскими и ирландскими бандами из разных районов города происходят жестокие разборки.
5. Истребление. Линчевание, погромы, массовые убийства и гитлеровская программа геноцида представляют собой высшую степень насильственного проявления предрассудков.
Эта пятибалльная шкала математически не идеальна, но она помогает привлечь внимание к широчайшему спектру действий, которые могут стать результатом предвзятых отношения и убеждений. И хотя многие люди, скорее всего, никогда не перейдут от антилокуции к избеганию, от избегания к активной дискриминации и выше по шкале, все же активная позиция на одном уровне упрощает переход на следующую, более агрессивную ступень. Именно антилокуция Гитлера заставила немцев избегать своих еврейских соседей и прежних друзей. Эта подготовка облегчила принятие дискриминационных Нюрнбергских законов, после которых, в свою очередь, поджоги синагог и уличные нападения на евреев начали казаться вполне естественными. Последним шагом в этой жуткой прогрессии были печи Аушвица.
С точки зрения социальных последствий «предрассудки, не выходящие за рамки приличий», в большинстве своем достаточно безобидны — они ограничиваются словоблудием. Но, к сожалению, зловещая прогрессия в этом столетии наблюдается все чаще. В результате этого возникает угрожающий раскол в человеческой семье. И по мере того как взаимная зависимость народов Земли друг от друга растет, они все хуже переносят нарастающие трения.
Примечания и ссылки
1 . S. L. Wax. A survey of restrictive advertising and discrimination by summer resorts in the Province of Ontario. Canadian Jewish Congress: Information and comment, 1948, 7, 10–13.
2 . Cf. A New English Dictionary. (Sir James A.H. Murray, Ed.) Oxford: Clarendon Press, 1909, Vol. VII, Pt. II, 1275.
3 . Определение заимствовано у томистов-моралистов, которые называют предрассудки «опрометчивыми суждениями». Автор признателен преподобному Дж. Х. Фихтеру, С. Дж., который обратил его внимание на это. Данное определение подробнее обсуждается в статье Rev. John LaFarge, S.J. в издании The Race Question and the Negro, New York: Longmans, Green, 1945, 174 ff.
4 . Cf. R.M. Williams, Jr. The reduction of intergroup tensions. New York: Social Science Research Council, 1947, Bulletin 57, 37.
5 . H. S. Dyer. The usability of the concept of “Prejudice.” Psychometrika, 1945, 10, 219–224.
6 . Вот пример определения с релятивистской точки зрения: «Предрассудки — это распространенное враждебное отношение и/или действие в адрес какой-либо отдельной категории или группы людей, когда такое отношение, либо действие, либо и то и другое оцениваются обществом как менее благосклонные, чем принятые в обществе». P. Black and R.D. Atkins. Conformity versus prejudice as exemplified in white-Negro relations in the South: some methodological considerations. Journal of Psychology, 1950, 30, 109–121.
7 . N. W. Ackerman and Marie Jahoda. Anti-Semitism and Emotional Disorder. New York: Harper, 1950, 4.
8 . Не все шкалы измерения предрассудков включают в себя элементы, отражающие и отношение, и убеждения. Те, которые включают, свидетельствуют о корреляции между этими двумя параметрами. Cf. Babette Samelson. The Patterning of attitudes and beliefs regarding the American Negro. (Не опубликована.) Radcliffe College Library, 1945. См. также A. Rose, Studies in reduction of prejudice. (Mimeograph.) Chicago: American Council on Race Relations, 1947, 11–14.
9 . Осознавая дискриминацию как общемировую проблему, Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций подготовила тщательный анализ основных видов и причин дискриминации: The main types and causes of discrimination. United Nations Publications, 1949, XIV, 3.
2 Народы белой расы, населяющие Южную Африку, потомки европейских (преимущественно голландских, а также французских и немецких) колонистов-переселенцев. — Примеч. ред.
3 См. ссылки в конце главы. — Примеч. автора.
Глава 2. Закономерность предрассудков
Разделение человеческих групп — Процесс категоризации — Когда категориям противоречат факты — Личные ценности как категории — Личные ценности и предрассудки — Выводы
Почему у людей так легко формируются этнические предрассудки? Потому что две важнейшие их составляющие, которые мы уже обсуждали, — ложные обобщения и враждебность — являются естественными и характерными особенностями человеческого разума. На какое-то время мы оставим враждебность и связанные с ней проблемы вне поля зрения. Давайте рассмотрим только те базовые условия жизни и мышления человека, которые естественным образом приводят к формированию ошибочных и категоричных предрассудков — и которые, таким образом, подводят нас к черте этнического и группового антагонизма.
Предупреждаю читателя, что в этой — или какой-либо другой — отдельной главе книги невозможно раскрыть проблему предрассудков полностью. Каждая глава сама по себе представляет собой одностороннее восприятие того или иного вопроса. Это неизбежный изъян любой аналитической трактовки предмета. Проблема в целом многогранна, и я прошу читателя, исследуя один аспект, помнить об одновременном существовании множества других. Таким образом, в данной главе представлен своего рода «когнитивный» взгляд на предрассудки. Сейчас мы в силу необходимости не затрагиваем многие детали, связанные с эго, а также эмоциональные, культурные и личностные факторы, которые действуют параллельно.
Разделение человеческих групп
На всей нашей планете группы держатся обособленно. Люди вступают в брак с себе подобными. Они едят, играют, живут однородными сообществами. Предпочитают путешествовать с теми, кто на них похож, и вместе посещать храмы. Эта бессознательная сплоченность по большей части обусловлена не чем иным, как удобством. Нет необходимости налаживать отношения с представителями внешних групп. Если рядом есть множество людей, из которых можно выбирать себе компанию, зачем усложнять и адаптироваться к новым языкам, новой еде, новой культуре или к людям с другим уровнем образования? Куда проще иметь дело с теми, кто имеет схожий бэкграунд. Встреча выпускников доставляет радость в том числе по той причине, что всех ее участников объединяет возраст, общие культурные реминисценции (например, старые песни, которые все любят) и, по сути, одинаковая история обучения.
Таким образом, на выполнение большей части жизненных задач можно тратить меньше усилий, если держаться вместе с сородичами. Иностранцы — это всегда напряжение. То же самое можно сказать о людях более высокого или низкого социального и экономического уровня, чем наш собственный. Мы не играем в бридж с уборщиком. Почему? Возможно, он предпочитает покер; почти наверняка он не поймет шуток и милой болтовни, которую так любим мы с друзьями; различие манер тоже может вызвать неловкость. Дело не в том, что у нас есть классовые предрассудки, а в том, что мы чувствуем себя комфортно и непринужденно только с представителями нашего собственного класса. И, как правило, существует множество людей нашего класса, расы, религии, с которыми можно развлекаться, жить, есть и вступать в брак.
В профессиональной деятельности нам гораздо чаще приходится иметь дело с представителями внешних групп. В промышленности или бизнесе высшее руководство вынуждено общаться с рабочими, управленцы — с уборщиками, сотрудники отделов сбыта — с клерками. Представители разных этнических групп могут трудиться бок о бок у станков, хотя почти наверняка свободное время они проводят в разных, более комфортных группах. Взаимоотношений на работе редко бывает достаточно для преодоления психологической обособленности. Иногда контакт настолько стратифицирован, что чувство разобщенности усиливается. Мексиканский рабочий может начать завидовать тому, что его работодателю-англичанину живется намного проще. Белый служащий может опасаться, что его темнокожий помощник стремится продвинуться вперед и занять его место. Иностранцы, изначально нанятые на черную работу, вызывают страх и зависть основной группы, когда начинают подниматься по профессиональной и социальной лестнице.
Не всегда группы меньшинств держатся обособленно потому, что их к этому вынуждает доминирующее большинство. Часто они сами предпочитают сохранять свою идентичность, чтобы не прилагать лишних усилий, разговаривая на чужом языке или следя за своими манерами. Подобно бывшим одноклассникам на встрече выпускников, они предпочитают общаться с теми, кто имеет схожие традиции и бэкграунд.
Как показало одно исследование, старшеклассники, представляющие американские меньшинства, проявляют еще больший этноцентризм, чем коренные белые американцы. Молодые негры, китайцы и японцы, к примеру, более последовательно выбирают друзей, компаньонов и возлюбленных из собственной группы, чем белые ученики. Да, они не выдвигают «лидеров» из собственной группы, оставляя пальму первенства нееврейскому белому большинству. Но соглашаясь с тем, что лидерами класса должны быть представители доминирующей группы, они стремятся к большему комфорту, ограничивая близкие отношения своим кругом[1].





























