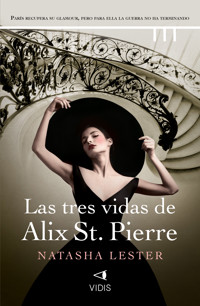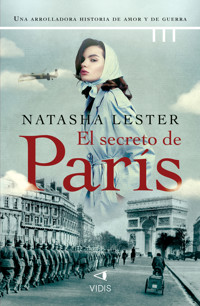9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Невероятные женщины Наташи Лестер
- Sprache: Russisch
Чем ты готова пожертвовать, чтобы о тебе узнал весь мир? Французская швея. Британский шпион. Американская наследница. Эта история начинается в Париже и охватывает континенты и столетия. Париж, 1940. Юная Эстелла Биссетт живет с матерью и работает в швейной мастерской. Она амбициозна, остра на язык, с детства изучает английский и мечтает стать великим модельером. Когда немецкие войска приближаются к Парижу, мать Эстеллы просит дочь уехать в Америку, к отцу, которого девушка никогда не знала. И на последнем пароходе Эстелла Биссетт уплывает в новую жизнь... Нью-Йорк, 2015. Фабьен прилетает из Австралии на выставку легендарной линии одежды своей бабушки. «Если бы только Эстелла могла увидеть все это…» Фабьен знакомится с ведущим дизайнером «Тиффани» Уиллом Огилви, с которым встретится вновь уже в Париже. Узнав больше о прошлом бабушки, Фабьен откроет удивительная история потерь и обретений, разбитых сердец и исцеляющей силы любви.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Наташа Лестер Швея из Парижа
© Селифонова С., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *
Посвящается Руби.
Я обещала, что ты начнешь читать мои книги, когда тебе исполнится двенадцать. Тогда казалось, это произойдет еще не скоро. И вот тебе двенадцать, и мы с тобой родственные души. Надеюсь, ты всегда будешь любить книги и историю.
Приятного чтения, моя замечательная девочка.
Часть первая Эстелла
Глава 1 2 июня 1940 года
Эстелла Биссетт бросила на стол рулон золотого шелка, и он развернулся, колыхаясь, словно подол танцовщицы канкана. Эстелла провела по ткани рукой, ощущая одновременно мягкость и чувственность; похоже на прикосновение розовых лепестков или обнаженной кожи.
– What’s your story morning glory[1], – негромко произнесла она по-английски.
– Эстелла, твой английский лучше, чем у американцев! – засмеялась мама.
Эстелла улыбнулась. Ее учитель английского сказал то же самое год назад на последнем уроке, перед тем как влиться в ряды тех, кто покидал Европу: «У тебя акцент более американский, чем у меня!» Она зажала рулон под мышкой, набросила шелк на плечи и начала скользить по комнате в ритме танго, не обращая внимания на возгласы Attention![2]. Окрики женщин только раззадорили ее, и к танцевальным па добавилось пение: бодрая и незатейливая мелодия Жозефины Бейкер I Love Dancing[3] слетала с губ, перемежаясь приступами смеха.
Эстелла в легком реверансе отступила назад и тут же резко выпрямилась, застыв свечкой. Конец рулона взвился над рабочим столом, где сидели швеи, и, едва не задев голову Наннетт, хлестнул по плечу Мари.
– Эстелла! Mon Dieu[4], – скривилась Мари и притворно схватилась за плечо.
Эстелла чмокнула Мари в щеку.
– Такой шелк заслуживает по меньшей мере танго. – Девушка жестом показала на ткань, сияющую на фоне будничной обстановки швейной мастерской подобно яркой луне. Материал явно предназначался для платья, которое не просто вскружит головы, но и буквально заставит их вращаться быстрее, чем порхают по клавишам рояля пальцы Коула Портера[5] в пользующемся дурной славой джаз-клубе Бриктоп[6] на Монмартре.
– Он заслуживает того, чтобы ты села и начала работать, – буркнула Мари.
В дверях появился месье Омон, привлеченный шумом. Бросив взгляд на завернувшуюся в шелк Эстеллу, он с улыбкой спросил:
– Что натворила на сей раз ma petite étoile?[7]
– Она шлепнула меня отрезом, – пожаловалась Мари.
– К счастью, ты у нас девушка в теле. Такой все должно быть нипочем, даже шалости Эстеллы, – поддразнил он Мари. Та в ответ что-то процедила сквозь зубы.
– Что будем из этого шить? – спросила Эстелла, любовно разглаживая складки золотой ткани.
– Смотри. – Месье Омон протянул ей цветной эскиз.
Платье, сделанное на основе модели «Ла каваллини» от Ланвен[8], двадцатых годов; однако вместо огромного банта, украшенного тысячами жемчужин и хрустальных бусин, такой же бант предлагалось декорировать сотнями крошечных золотых бутонов роз.
– О! – ахнула девушка и подалась вперед, чтобы коснуться эскиза. Она знала, что ряды изящных бутонов будут смотреться издалека как сверкающие золотые капли и что в полной мере оценить идею модельера – волнообразную ленту из роз – можно будет, только подойдя ближе к женщине в этом платье. Как будто нет рядом никаких эполет, болтающихся за плечами противогазов, одежды всех оттенков синего – синева линии Мажино, темно-синий цвет формы Королевских военно-воздушных сил Великобритании, холодный блеск закаленной стали, – которые Эстелла все больше ненавидела.
– Если я когда-нибудь смогу создавать подобные эскизы, – сказала она, любуясь изысканным рисунком Ланвен, – то буду так счастлива, что никогда не захочу иметь любовника.
– Эстелла! – воскликнула Мари с упреком, будто двадцатидвухлетней девушке не полагалось даже понимать значение этого слова и уж тем более произносить его вслух.
Эстелла взглянула через всю комнату на Жанну, свою маму, и прыснула от смеха.
Как и следовало ожидать, мама глаз не подняла и не вмешалась – сидела и продолжала мастерить из розового шелка маленькие вишневые цветки. Однако от Эстеллы не укрылось, как она сжала губы в струнку, чтобы сдержать улыбку. Мама знала: дочку хлебом не корми, только дай подколоть несчастную Мари.
– Платье нельзя сравнивать с любовником, – нравоучительно произнес месье Омон и указал на шелк. – У тебя есть две недели, чтобы превратить ткань в золотой букет.
– А обрезки останутся? – спросила Эстелла, по-прежнему прижимая к груди рулон.
– Нам прислали сорок метров, но, по моим расчетам, тебе понадобится всего тридцать шесть. Если будешь работать экономно.
– Я буду экономна, как сказочная фея, плетущая французское кружево, – с благоговением произнесла Эстелла.
Она оторвала от груди рулон, натянула шелк на деревянную раму и закрепила булавками. Чтобы придать ткани жесткость, использовался раствор сахара в воде. Теперь Мари могла вырезать из нее кружки́ при помощи тяжелого стального штампа.
Когда Мари закончила, Эстелла накрыла поролоновую подушечку чистой белой тканью, раскалила бульку – стальной шарик с ручкой – на небольшом огне, проверила температуру в кастрюле с воском, затем положила первый золотой диск из шелка на белую ткань и вдавила в него бульку. Диск мгновенно обернулся вокруг раскаленного инструмента и принял форму изящного лепестка розы. Эстелла отложила его в сторону и повторила процесс. До обеда она сделала две сотни бутонов.
За работой она, как обычно, болтала и пересмеивалась с Наннетт, Мари и матерью, пока Наннетт не произнесла тихо:
– Я слышала, солдат с севера бежит больше, чем гражданских из Бельгии и Голландии.
– Если солдаты бегут, кто встанет между нами и немцами? – спросила Эстелла. – Нам что, удерживать Париж швейными иголками?
– Наш народ не пропустит бошей. Франция выстоит, – твердо сказала мама.
Эстелла вздохнула. Спорить бессмысленно. Как бы Эстелла ни желала уберечь мать, она понимала – никуда они не уйдут. Так и будут сидеть в швейной мастерской и делать цветки из ткани, будто нет ничего важнее модной одежды, – потому что уходить некуда. Они не присоединятся к потокам беженцев из Бельгии, Голландии и с севера Франции, потому что не знают никого на юге страны, кто мог бы их укрыть.
В Париже у них жилье и работа. За его пределами – ничего. Вот почему Эстелла промолчала, хотя ее тревожила слепая вера матери в способность Франции противостоять немецкой армии. И что такого, если они укроются за стенами мастерской и будут притворяться, что хотя бы еще несколько дней, пока модельеры, подобные Ланвен, заказывают им золотые шелковые цветы, все будет хорошо?
За обедом, когда в кухне мастерской все ели рагу из кролика, Эстелла уселась в сторонке от других женщин и начала рисовать. На листке бумаги она набросала карандашом фасон платья: длинная стройнящая юбка в пол, рукава-крылышки, перехваченная тонким пояском из золотого шелка талия, элегантный V-образный вырез и лацканы, как на мужской рубашке – несколько неожиданная деталь для вечернего платья в пол, однако Эстелла знала, что это сделает платье модным и оригинальным. Несмотря на облегающую юбку, платье вполне подойдет для танцев: такое броское и смелое, платье для жизни. А летом 1940 года в Париже приветствовалось все, что обещало жизнь.
Мама покончила с рагу и, хотя до конца обеденного перерыва оставалось еще четверть часа, направилась к кабинету месье Омона. Эстелла наблюдала, как они тихо о чем-то переговаривались. Месье был из тех мужчин, кого называли gueules cassées – инвалиды Мировой войны с лицевым ранением. Часть его лица обезобразил огнемет – рот перекошен, от носа мало что осталось… Он походил на монстра – хотя Эстелла давно не обращала на это внимания, – за пределами мастерской прятал лицо под медной маской и не скрывал своей неприязни к немцам, или бошам, как их обычно называли он и мама. В последнее время Эстелла видела, как в мастерскую заходили мужчины, встречались с ним на лестнице и уходили. Эти мужчины якобы доставляли ткань или красители; вот только принесенные ими ящики месье всегда распаковывал сам.
А мама – одна из семисот тысяч женщин, которых Мировая война оставила вдовами. Муж погиб вскоре после свадьбы, когда Жанне было всего пятнадцать. Два человека, у которых есть причина ненавидеть немцев и которые слишком часто что-то обсуждают шепотом – слишком серьезным, чтобы сойти за романтическую беседу.
Мама вернулась, и Эстелла вновь склонилась над эскизом.
– Très, très belle[9], – сказала Жанна, взглянув на рисунок дочери.
– Сегодня вечером сошью платье из остатков ткани.
– И наденешь в La Belle Chance? – Мама назвала джаз-клуб на Монмартре, который Эстелла по-прежнему часто посещала, хотя, после того как в прошлом году французов мобилизовали, а британцы бежали из Дюнкерка, в городе осталось мало мужчин – лишь те, кто работал на выпускающих военную продукцию заводах и имел освобождение от призыва.
– Oui[10], – улыбнулась Эстелла.
– Я буду на Северном вокзале.
– И завтра придешь на работу усталой.
– Как и ты сегодня утром, – проворчала мама.
Накануне вечером на вокзале дежурила Эстелла. Она раздавала по чашке супа беженцам, чей путь лежал через Париж, – одним посчастливилось сесть на поезд, другим пришлось пройти пешком сотни километров, спасаясь от немцев. Утолив голод, люди вновь пускались в дорогу – одни находили убежище у родственников, а другие продолжали двигаться, пока могли стоять на ногах, как можно дальше от войны, за Луару, где, по слухам, их ждала безопасность.
День прошел своим чередом – один бутон за другим… В шесть часов вечера Эстелла с матерью, взявшись за руки, шли вдоль Рю-де-Пти-Шан позади сада Пале-Рояль, мимо Пляс-де-Виктуар и рынка Лез-Аль; у домов рядами выстроились фургоны на конной тяге – теперь их использовали вместо грузовиков для подвоза продовольствия. Действительность, которую Эстелла пыталась не замечать, укрывшись под завесой золотого шелка, утвердилась в своих правах.
Прежде всего угнетало зловещее затишье; звуки не исчезли, однако в это время обычно они с мамой шли в плотной толпе – швеи, портные, закройщики и манекенщицы торопились домой после работы. Теперь мимо опустевших ателье и магазинов спешили редкие прохожие; в городе царила пустота, хотя еще недавно, всего месяц назад, Париж был полон жизни. Увы, после того как десятого мая закончилась drôle de guerre – «странная война»[11] – и гитлеровская армия вторглась во Францию, из Парижа начался отток людей. Сначала американцы в машинах с водителями, затем целые семьи в старых автомобилях, и, наконец, все, кто смог найти лошадь и повозку.
И все же стояла теплая июньская ночь; в воздухе пахло сиренью, каштаны выбросили свечи жемчужных соцветий, там и сям попадались все еще открытые рестораны и кинотеатры, модный дом Скиапарелли также работал. Жизнь продолжалась. Если бы только не замечать кошек, которые скитались по улицам, выброшенные сбежавшими из города хозяевами, затемненное уличное освещение, светомаскировочные шторы в окнах – все то, что никак не вязалось с романтикой летней ночи в Париже!
– Я видела, как ты разговаривала с месье, – выпалила Эстелла, когда они пересекли рю дю Тампль и вдохнули знакомый запах гниения и кожи, доносившийся из квартала Марэ.
– Он идет со мной сегодня вечером, как обычно.
– На Северный вокзал? – настойчиво продолжала расспросы Эстелла, не в силах избавиться от ощущения, что в последнее время мама уходит из дому по вечерам не только для раздачи супа беженцам.
– Oui. – Мама сжала руку Эстеллы. – Начну с Северного вокзала.
– А потом?
– Я буду осторожна.
Что ж, подозрения Эстеллы подтвердились.
– Я с тобой.
– Нет. Лучше пойди развлекись, пока еще можно.
Внезапно Эстелла догадалась, что все слова матери о том, что Франция выстоит, выражали ее отчаянный крик души, а не слепую уверенность. Мама выдавала желаемое за действительное ради дочери. Уже не впервые в жизни Эстелла почувствовала огромную благодарность матери: ведь та растила ее одна, сделала все, чтобы девочка окончила школу, трудилась не покладая рук, чтобы накормить, одеть и уберечь ее, и ни разу не пожаловалась, что ограничила свою жизнь швейной мастерской и дочерью.
– Я люблю тебя, мама, – шепнула Эстелла и поцеловала Жанну в щеку.
– Это самое главное, – ответила та, улыбнувшись своей редкой и чудесной улыбкой, которая изменила контуры ее лица и позволила выглядеть на свой возраст. Ей всего тридцать семь – совсем не старая. Эстелле захотелось запечатлеть навсегда этот вечер и этот миг, пришить к небу стежками – настолько крепко, чтобы никто никогда не смог отпороть.
Вместо того она посмотрела вслед маме, удаляющейся вверх по рю дю Тампль в направлении Северного вокзала, и продолжила свой путь через пассаж Сен-Поль – узкий грязный переулок, который вел к потайному входу в великолепную церковь Сен-Поль-Сен-Луи. В этом переулке находилась и ее квартира. Эстелла толкнула парадную дверь дома. Старый консьерж месье Монпелье, как всегда пьяный, что-то буркнул и сунул ей в руки записку.
Она прочла ее и выругалась сквозь зубы. Ну почему именно сегодня?
– Putain[12], – прошипел консьерж, услышав ее слова.
Эстелла не удостоила его вниманием. Вот когда она выйдет из дома в золотом платье, пусть у консьержа глаза на лоб вылезут, а сейчас у нее другие дела. Девушка торопливо взбежала на шестой этаж по винтовой лестнице, вошла в свою квартиру и, несмотря на июньскую жару, накинула длинный плащ. Затем пустилась тем же путем обратно, пока не добралась до офиса закупочной конторы одного из американских универсальных магазинов недалеко от рю Фобур-Сент-Оноре.
Мадам Флинн – наверное, одна из немногих оставшихся в Париже американцев – была в офисе одна, в чем Эстелла не сомневалась. На столе перед ней высилась гора коробок с надписью «Скиапарелли».
– Как можно быстрее, – процедила мадам Флинн, повернувшись к девушке спиной, будто понятия не имела, чем сейчас займется Эстелла. Как бы не так!
Эстелла достала из коробок платья, спрятала под плащом и, не проронив ни слова, сбежала вниз по лестнице. Она прошла по улице и поднялась по другой лестнице в копировальную мастерскую, где подрабатывала в те дни, когда еще проходили модные показы. Во время этих показов подобные ей рисовальщики в удачные дни могли сделать до пятидесяти эскизов моделей «от-кутюр» и затем продать копировальщикам или непосредственно в закупочную контору американского универмага.
В Париже и Америке рынок для копий Шанель, Вионне, Ланвен, сестер Калло, Мейнбохер и прочих кутюрье было невозможно насытить. Эстелла всегда знала, что на эскизах для копировальщиков могла бы зарабатывать больше. При этом она понимала, что если будет каждый день копировать – а фактически воровать – чужие модели, то никогда не осмелится создавать свои собственные. И потому работала рисовальщицей лишь во время показов. Ее карандаш рассеянно зависал над листком бумаги, и vendeuse[13] не догадывалась, что девушка не только записывает номер приглянувшегося платья. Эстелла пристально рассматривала манекенщиц, элегантно дефилирующих по залу, и схватывала детали: количество складок на юбке, ширину отворота, размер пуговиц, при этом молясь, чтобы манекенщица двигалась помедленнее, не оставив Эстеллу с незаконченным эскизом, который невозможно будет продать.
Больше всего Эстелла любила показ мод от Шанель. Хотя зарисовать пятнадцать эскизов – непростая задача. Вроде бы и покрой несложный, но элегантность впечатляла – и приходилось постараться, чтобы уловить ее. Не просто ткань, пуговицы и застежки; каждое платье имело душу. У Шанель все было неброским и сдержанным. Эстелле недоставало буффонады, которая царила в модных домах типа Пату; на ее фоне легко можно скрыть свою тайную деятельность. А у Шанель такая vendeuse – любого снайпера за пояс заткнет! Каждому гостю выдавали узкий листок бумаги для заметок вместо большой программки, которая идеально подходила для того, чтобы спрятать эскизы, и Эстелле во время показа приходилось рисовать, практически не двигая карандашом.
Она всегда убеждала себя, что это лишь игра, и теперь, когда из-за войны американские покупатели не ходят на показы мод и заработок с последнего сезона значительно снизился, приходится хвататься за всякую возможность. Тогда она сможет несколько увеличить ежемесячную сумму в счет долга месье Омону за оплату уроков английского, которые по настоянию матери посещала каждый день после школы с шести лет. Уроки, которые мама не в состоянии была оплачивать и на которые месье Омон дал ей ссуду, – французским женщинам не дозволено иметь личный счет в банке, и потому взять кредит они тоже не могут. Так же, как не могут и голосовать; они низший класс, которому положено сидеть дома, не высовываться, готовить еду и рожать.
Война стала ужасным шоком для тех, кто только и умел, что тратить деньги на наряды. К счастью, Жанна Биссетт в силу обстоятельств воспитала Эстеллу более изобретательной. Потому Эстелла знала, что, хотя месье Омон мог бы списать долг в один миг, гордость матери не позволит не выплатить все до последнего гроша. А это невозможно без дополнительного заработка Эстеллы.
Именно уроки английского позволили ей добиться успеха в качестве рисовальщицы; никто из американских покупателей не говорил по-французски, и потому они предпочитали иметь дело с ней. Если она не будет выполнять поручения мадам Флинн, долг ляжет на плечи матери – долг, который только увеличился в последний год, когда она училась в парижском филиале Нью-Йоркской школы изобразительного и прикладного искусства, располагавшемся в кампусе на Вогезской площади. Там, пока школа не закрылась из-за войны, у Эстеллы появилась мечта увидеть однажды свое имя на вывеске модного ателье и продавать покупателям собственные модели, а не краденые. Однако в такие моменты, как сейчас, со спрятанными под плащом шестью платьями от Скиапарелли, она понимала, что этому никогда не бывать и что любой покупатель из Америки вроде мадам Флинн, берущий комиссию с копировальщиков за то, что дает им на время комплект платьев для изготовления копий, поступает предосудительно: модельеры, подобные Эльзе Скиапарелли, могли за такое глаза выцарапать.
Эстелла поклялась себе, что делает это в последний раз.
Однако сейчас мадам Шапю ждет ее, чтобы начать работу. Закройщики взяли принесенные под плащом платья и начали делать выкройки, пока Эстелла рисовала эскизы, а мадам Шапю записывала, какие пуговицы понадобятся, и украдкой отрезала лоскутки ткани у швов в незаметных местах. Затем мадам Шапю дала Эстелле денег на такси, и девушка вернула платья мадам Флинн вместе с комиссией. Мадам Шапю платила за возможность скопировать модели. Эстелла знала, что завтра платья погрузят на отплывающий в Нью-Йорк корабль – если корабли еще выходят в море, учитывая неразбериху последних дней, – а у мадам Шапю платья будут готовы через два дня, и она продаст их проверенным покупательницам из Парижа, желающим носить одежду «от-кутюр», но не желающим много за нее платить.
Затем Эстелла поспешила обратно в квартал Марэ – нужно поторопиться, если она хочет успеть вдохнуть жизнь в эскиз своего золотого платья и до полуночи появиться в нем в джаз-клубе. У своего дома она набрала ведро воды из колонки во дворе. Под недремлющим взглядом консьержа, который ненавидел Эстеллу и ее маму за то, что они отказывались в знак уважения покупать ему портвейн на Рождество, и который наслаждался мытарствами тех, кто жил в одном из многих парижских домов без водопровода, она втащила ведро на верхний, самый дешевый этаж. В квартире она налила воды в кофейник, поставила его на плиту и сварила себе кофе. Затем уселась за швейную машинку, взяла ножницы и раскроила ткань по эскизу, который сделала в мастерской. Был бы у нее закройщик, который мог воплотить в жизнь задуманное! Сама она понимала, что ей никогда не стать Вионне, которая работала сразу ножницами, без эскизов.
Через полтора часа платье было готово, и Эстелла не сдержала улыбку – все вышло как надо. Она натянула платье и, нахмурившись, взглянула на свои поношенные туфли. Сапожным ремеслом она не владеет, а денег на новую пару обуви нет. Эстелла набросила плащ на случай, если к ночи похолодает, проигнорировала противогаз, который полагалось иметь при себе, однако, уступив настояниям матери, повязала белую косынку, чтобы в затемненном городе ее могли видеть водители автомобилей.
Добравшись до Монмартра и миновав джаз-клуб Бриктоп – который был ей не по карману, – Эстелла вошла в другой клуб, пусть и не столь изысканный, но в котором определенно царила более приятная атмосфера. Там местный говорок сливался с мелодичными фразами саксофона; какой-то мужчина, явно работник военного завода, пытался протиснуться мимо Эстеллы, прижавшись несколько теснее, чем полагалось. Она отбрила его строгим взглядом и парой избранных словечек и уселась за столик рядом со своей подругой Рене.
– Bonsoir[14]. – Рене поцеловала ее в щеку. – У тебя не остались «Голуаз»?
Эстелла достала две последние сигареты. Девушки закурили.
– У тебя обнова? – ахнула Рене.
– Сама сшила.
– Я так и подумала. В BHV[15] такого не отыщешь.
– Именно.
– Мне кажется или оно несколько… необычное?
Эстелла покачала головой. Рене носила одно из простых платьев, которые одиноко болтались на вешалках в Au Printemps[16], и выглядела подобно всем женщинам в клубе: заурядно и бесцветно, как разбавленное вино, которое они пили.
– Разве мы могли ожидать другого от Эстеллы? – послышался веселый голос. Ютт, сестра Рене, наклонилась и поцеловала Эстеллу в обе щеки. – Выглядишь magnifique[17].
– Потанцуйте со мной, – прервал их грубый голос. От мужчины разило, как от ночной площади Пигаль, а именно ликером, смешанным с духами десятков женщин, которых он уже провел по танцплощадке. При дефиците мужчин он чувствовал себя королем. Такой тип, с учетом отсутствия манер, вообще не имел бы шанса, если бы большинство не ушло на фронт.
– Нет, спасибо, – ответила Эстелла.
– А я не против, – заявила Рене.
– Хочу ее. – Мужчина указал на Эстеллу.
– А мы вас не хотим, – настаивала она.
– Я пойду, – почти с отчаянием повторила Рене. Примета времени: девушка могла так и просидеть весь вечер без партнера. И вот один все же появился, пусть третьего сорта – но какая разница?
– Нет! – Ютт положила руку на плечо сестры.
Эстелла поняла, что жест вышел непроизвольно и говорил о том, как подруга любила Рене, как бы та ее ни раздражала. Она ощутила острую тоску и тут же осознала, насколько это глупо – желать того, чего у нее никогда не будет. Надо благодарить судьбу, что у нее есть мать, а не эгоистично завидовать тем, у кого есть сестра.
Мужчина выдернул Рене из-за стола и увлек на танцплощадку, стараясь притягивать ее как можно ближе к себе. Эстелла отвернулась, чувствуя отвращение, когда тот прижался к девушке промежностью.
– Пойдем споем что-нибудь быстрое, – сказала она Ютт. – Нужно сменить темп, чтобы она могла отлепиться от него.
Эстелла и Ютт направились к четверке немолодых музыкантов, с которыми они вдвоем провели не один вечер, играя на рояле и напевая, чтобы уроки музыки не пропали даром. Мама Эстеллы в юности училась пению в школе при монастыре и дома всегда напевала, считая, что музыка больше украшает квартиру, чем разные безделушки, и в раннем детстве передала свое увлечение дочери. Мама предпочитала оперные арии, а вот Эстелле нравились низкие хриплые звуки джаза.
Музыканты, не сбившись с ритма, чмокнули Эстеллу в щеки. Люк, пианист, похвалил ее платье. Он говорил на таком вульгарном и невнятном диалекте, что обычная француженка не смогла бы его понять. Люк закончил песню и отправился в бар пропустить стаканчик. Эстелла села за рояль; Ютт встала у микрофона рядом с Филиппом. Эстелла наиграла мотив J’ai Deux Amours[18], и публика с благодарностью зааплодировала. Она продолжила, надеясь, что каждый в зале достаточно сильно любит Париж и эта любовь спасет город от того, что может на него обрушиться, когда немцы подойдут еще ближе. Голос Ютт был недостаточно высокий для этой песни, поэтому она столкнула подругу с банкетки и заставила петь вместо себя. Эстелла не возражала.
В конце последнего куплета к ней присоединились завсегдатаи клуба, и Эстелла поверила, пусть лишь на несколько секунд, что все будет хорошо: Париж – великий и легендарный город, и его блеск не под силу погасить такому маленькому и нелепому человечку, как Адольф Гитлер.
После того она еще немного посмеялась с Филиппом, Ютт и Люком, пока не спохватилась, что они недоглядели за Рене и та ушла с подонком, который пригласил ее танцевать. Эстелла внезапно почувствовала себя разбитой и подавленной, а еще намного старше своих двадцати двух лет.
– Мне пора. – Она встала и дважды расцеловала каждого в щеки.
Оказавшись на ночной парижской улице, Эстелла пошла домой не сразу. Она побрела через грязный и обветшалый квартал Марэ, запущенность которого становилась все более очевидной с каждым hôtel particulier[19]; особняки, некогда принадлежавшие аристократам – хотя теперь дома превратили в слесарные мастерские, а роскошные дворы оскверняли груды тележных колес, транспортировочные поддоны, пристройки и навесы, – по-прежнему стояли с высоко поднятыми головами. Эстелла проводила рукой по каменным стенам и поглаживала их, как отрез золотого шелка в швейной мастерской. Сможет ли запечатленное в камне изящество – подобное покрою платья от-кутюр, который никогда не спутать с прет-а-порте, – противостоять пикирующим бомбардировщикам и колоннам мужчин в холодно-серых мундирах?
На рынке Карро-дю-Тампль царила тишина; все торговцы тканями и секонд-хендом отправились спать, чтобы с рассветом выложить на продажу брошенную обитателями Елисейских Полей одежду, которую нашли в мусорных корзинах. Более того, и во всем районе было тихо; блуждая по городу, Эстелла зачастую оказывалась одна на всей улице. Она вбирала в себя образы, привычные с детства, но слишком прекрасные, чтобы считать их само собой разумеющимися теперь, когда они могли исчезнуть: увядающее великолепие красных, золотых и голубых росписей над воротами отеля «Де Клиссон» и искривленные средневековые башенки, обрамляющие ворота, подобно двум располневшим часовым; симметричные павильоны и роскошный крытый пассаж Карнавале.
Незаметно для себя она очутилась у дома на рю де Севинье, одного из «заброшенных особняков», куда мама часто приводила ее в детстве и где Эстелла играла среди нежилых комнат; там, как она подозревала, мама встречалась с месье Омоном. Однако при задернутых светомаскировочных шторах и затемненных фонарях невозможно было рассмотреть, есть ли кто-то внутри. Построенный не в стиле французского барокко и избегающий всякой симметрии и формы, дом выделялся на фоне соседних зданий, подобно горбу – идешь, а он выныривает, будто из засады, в истинно готическом стиле. Островерхие башенки должны были напоминать Эстелле о сказочных дворцах, но вместо того она подумала о женщинах, которых заточили наверху, откуда невозможно сбежать.
Повинуясь внезапному порыву, Эстелла толкнула деревянную дверь, ведущую во внутренний двор. Скульптурные изваяния, символизировавшие четыре времени года, надменно взирали со стен дома; лишь обезглавленное Лето утратило свое могущество. Посыпанные гравием дорожки уже много лет не подметали и не разравнивали, но они по-прежнему сходились в форме звезды; каждый луч отделялся от других разросшейся живой изгородью, которая давно распространила побеги во всех направлениях. Мята, которую в свое время наверняка не выпускали за пределы аптекарского огорода, покачивала стеблями и наполняла воздух резким запахом опасности. И тут Эстелла услышала… Кто-то скребся о камень. Страх молнией пронесся вдоль ее позвоночника.
Она обернулась. Месье Омон, скорчившись, лежал у шаткой скамьи. От его одежды и тела исходил запах крови и ужаса.
– Mon Dieu! – воскликнула она.
Он приподнялся – на рубашке растеклось темное пятно.
– Отнеси вот это, – зашептал месье Омон, протягивая ей небольшой сверток, – в театр Пале-Рояль. Пожалуйста. Ради Парижа. Найди там l’engoulevent[20]. Ему можно доверять.
– Где мама? – спросила Эстелла.
– Дома. В безопасности. Беги!
Он вновь осел на землю, и Эстелла наклонилась ближе. Как ему помочь? Она сумела прислонить несчастного к скамье. Его глаза умоляли.
– Беги, – хрипло повторил он. – Ради Парижа.
Что бы ни держала в руках Эстелла, это означало опасность. И все же для месье Омона вещь настолько важная, что из-за нее он ранен и теперь рискует, потому что на вопрос о маме ответил «в безопасности». Разве не всего лишь час назад Эстелла пела о своей любви к Парижу?.. Теперь же от нее требовалось кое-что сделать для города.
Месье Омон прикрыл глаза. Эстелла развернула сверток. Планы здания, напечатанные на шелке. Можно распихать их по карманам, намеренно вшитым под подкладку плаща, чтобы переносить платья в копировальную мастерскую. Правда, Эстелла будет слишком заметной в своем блестящем золотом платье и расшитом серебристым бисером плащем из черного бархата.
– Беги! – в третий раз прошептал месье Омон сквозь стиснутые зубы.
Наконец Эстелла кивнула. Теперь слова песни, которую она пела в клубе, обрели конкретный смысл: в ее город вторгся враг, и, возможно, выполнив то, о чем умоляет месье Омон, она сможет предотвратить еще большее посягательство на честь Парижа.
Глава 2
Эстелла торопливо выскочила на улицу. Карты шелестели в карманах, как чьи-то невнятные голоса, напомнив о передаваемых из уст в уста слухах: будто немцы сбрасывают с самолетов отравленные конфеты, чтобы дети подбирали их и болели; будто немцы переодеваются монахинями и шпионят за парижанами; будто по ночам в городе приземляются немецкие парашютисты. Она опасалась, что каждый прохожий может оказаться симпатизирующим фашистам членом пятой колонны, который помогает Германии и потому готов на все, лишь бы помешать ей добраться до театра и передать карты. И все же девушка спускалась вниз по рю Ботрейи, мимо старинных часов, ржавых, однако продолжающих идти и напоминаюших парижанам, что, хотя их город бессмертен, к ним самим – и к ней в том числе – это не относится.
Затем, надеясь, что извилистый маршрут, который она выбрала, позволил городу укрыть ее и спрятать в складках улиц, Эстелла повернула направо, к Пале-Рояль. Наконец она увидела театр и теперь благодарила Бога за то, что ее платье достаточно нарядно и никому здесь не покажется неуместным.
Она поднялась по покрытой красным плюшевым ковром винтовой лестнице на верхний этаж и оказалась в уютном и роскошно обставленном холле – восхитительном при других обстоятельствах, – который освещала огромная люстра, настолько яркая, что Эстелла прикрыла глаза ладонью. Украшенные фестонами красные бархатные занавески закрывали дверные проемы, которые, как она предположила, вели собственно в театр. Стены были оклеены темно-бордовыми обоями с золотистой окантовкой; все остальное тоже отделано под золото – люстра, перила балконов, карнизы, рамки фресок на потолке, барельеф в виде изящной арки над дверью в дальнем конце холла. Женщины в платьях от Шанель, Лелонг и сестер Калло небольшими группами сидели в низких креслах, обитых красным бархатом; мужчины смеялись, попивая коньяк и кальвадос. Эстелла знала, что по многим причинам светская жизнь не прекращалась, люди устраивали вечеринки и застолья, однако после увиденного сегодня очутиться в театре было для нее все равно что попасть на Луну или в любое другое место, настолько же удаленное от реальности – той реальности, в которой немецкая армия подступает к Парижу.
Раздались звуки фокстрота, и несколько пар решили потанцевать, хотя места было немного. Эстелла откинула капюшон, распустила по плечам длинные темные волосы и вошла в холл.
Как узнать, кто или что этот козодой? Она обежала взглядом женщин, затем мужчин, и, когда встретилась глазами с одним из них, стоявшим в центре зала вместе с группой других, тот подмигнул ей с любопытством в манере, отличной от похотливых взглядов, которыми девушку удостоили некоторые другие.
Довольно трусить и вести себя так, словно она здесь чужая! Эстелла храбро пересекла зал. Плащ развевался за спиной, платье закрывало дрожащие колени. Ей не пришлось протискиваться сквозь толпу; толпа сама раздалась и пропустила ее – уверенная осанка, скопированная у манекенщиц, которых Эстелла видела на модных показах, стала своего рода пропуском.
Оказавшись рядом с мужчиной, она поцеловала его в обе щеки, улыбнулась и громко произнесла:
– Здравствуй, дорогой!
Интонацию она тоже переняла у манекенщиц – таким голосом они пытались соблазнить мужей богатых клиенток, и зачастую успешно.
– Рад, что ты пришла, – пробормотал он в ответ, скользнув ладонью по ее талии. Он подыграл Эстелле, а значит, она не ошиблась.
– Я увлекаюсь орнитологией, – шепнула она. – Особенно одной птичкой… «козодой» называется.
Мужчина ничем не выдал своей заинтересованности.
– Потанцуем? – Он извинился перед собеседниками, взял ее за руку и повел на площадку, где пары кружились под музыку.
Он потянулся развязать тесемки плаща, однако Эстелла покачала головой. Не передавать же карты в руки театрального посетителя!
– Я бы предпочла его не снимать.
Она очутилась в руках мужчины, и тот закружил ее по залу. Проклятая музыка зазвучала медленнее, фокстрот сменился вальсом. Учитывая позднее время и то, что большинство посетителей театра были в состоянии опьянения, главным для них стало очутиться поближе к партнеру по танцу; Эстелла поняла, что неуместно оставаться с незнакомцем на расстоянии вытянутой руки. Когда мужчина шагнул ближе, она сделала то же самое, и они оказались лицом к лицу, соприкоснувшись телами. Крепкие мускулы, сильный загар – словно мужчина проводил на открытом воздухе больше времени, чем в помещении; карие глаза и почти такие же темные волосы, как у нее. А ведь он не француз, хотя и владеет языком в совершенстве; произношение безупречное, однако слишком заученное и слишком идеальное, чтобы быть родным.
Незнакомец ожидал, пока она что-нибудь скажет. Эстелла понимала: кровь на рубашке месье Омона и то, как он говорил, однозначно намекали – он и, возможно, мама ввязались во что-то намного более опасное, чем помощь беженцам на вокзале, и незнакомец был частью этого. Она не доверит ему ничего, кроме того, что велел месье Омон, которого она знала с детства.
– Полагаю, у меня для вас кое-что есть, – сказала она, перейдя на английский.
– Да кто вы, черт возьми? – удивленно спросил он, также по-английски, контролируя свою интонацию.
– Вы меня не знаете. – Эстелла вновь переключилась на французский.
– С конспирацией у вас не очень. – Он указал на платье, которое предназначалось для того, чтобы кружить головы, хотя сейчас это было последним, чего хотела Эстелла. – Кому есть что скрывать, не наденет такое платье.
Она услышала то, что он попытался скрыть, а именно усмешку.
– Ничего смешного здесь нет, – резко произнесла Эстелла. Последние крупицы отваги покидали ее. Она должна выполнить поручение, вернуться, чтобы помочь месье Омону – Боже, спаси его! – и наконец добраться до дома, надеясь, как никогда еще не надеялась, что с мамой все в порядке.
– Острый же у вас язычок.
– Потому что я в жуткой ярости, – отбрила его Эстелла. – Мне нужно повесить плащ в надежном месте. Порекомендуйте что-нибудь.
– Выйдем на лестницу. Питер присмотрит за ним. – Все это время они танцевали, не убирая с лиц улыбки; никто, кроме них двоих, не подозревал, что дела обстоят не так, как кажется со стороны.
Эстелла кивнула, выпуталась из рук незнакомца и вышла из зала, развязывая тесемки. При этом она провела по шву слева и на мгновение задержала руку, надеясь, что, если мужчина тот, кому нужно передать карты, за которые заплачено кровью, он заметит ее движение. Лишаться плаща не хотелось; ткань стоила ей месячной зарплаты. Но цена невелика, если это поможет месье Омону. И маме. И Парижу.
Эстелла передала плащ человеку, на которого указал незнакомец, и бросилась вниз по лестнице, отчаянно желая оказаться дома. Она зашагала по ночному городу, прочь от того, чего не хотела знать, что пугало ее и заставляло понять, что прежняя жизнь при швейной мастерской в Париже в окружении красивых вещей закончилась.
Кто-то коснулся ее руки. Эстелла подпрыгнула. Она не слышала шаги, но каким-то образом мужчина очутился рядом.
– Наденьте. – Он протянул ей черный пиджак. – Ночью в таком платье вы не доберетесь до дома живой. На плаще кровь. Ваша?
Он провел ладонью по ее щеке, и Эстелла отпрянула, однако догадалась по положению его руки, что он не собирается нападать на нее, наоборот, поступок вызван благородными намерениями – мужчина хочет проверить, не ранена ли она. Ее реакция заставила незнакомца убрать руку – настолько поспешно, будто он ее и не поднимал.
– Кровь не моя. Это кровь месье…
Он оборвал ее:
– Мне лучше не знать имя. Можете отвести меня к нему?
Эстелла кивнула, и незнакомец последовал за ней. Он явно знал Париж так же хорошо, как и она – ни разу не спросил дорогу, шел быстро, как бы случайно держась рядом. Когда они, миновав пассаж Шарлемань, устремились в Деревню Сен-Поль[21] и попали в непроходимый лабиринт выбеленных осыпающейся известью дворов, мужчина вопросительно посмотрел на Эстеллу.
Она заговорила – впервые после того, как они ушли из театра:
– Еще немного дальше. Кто вы?
– Для вас будет безопаснее не знать, – покачал он головой.
Шпион. Она должна была задать еще один вопрос, хотя и понимала, что здесь, укрывшись за стенами бывшей приходской деревни, он может выстрелить в нее, или ударить ножом, или что еще делают люди подобные ему с теми, кто перешел им дорогу.
– На чьей вы стороне?
– Я не поблагодарил вас, – проговорил он вместо ответа. – Но эти бумаги помогут народу Франции в великом деле.
– И Британии? – Она старалась вытянуть больше информации.
– И всем союзникам.
Деревянные ворота дома на рю де Севинье возникли перед ними внезапно; Эстелла проскользнула во двор и резко остановилась, увидев на земле месье Омона.
Она метнулась вперед, но мужчина удержал ее.
– Я сделаю все, что смогу. Он заслужил достойных похорон, и он их получит. Обещаю.
Похороны… Боже, а как же?..
– Мама! – ойкнула Эстелла. Ее голосок был едва различим в глухой ночи погруженного в светомаскировку города.
– Идите к ней.
– А месье?
– Я о нем позабочусь.
Эстелла обернулась. Страх наконец сорвал с нее покров безрассудства, который она носила до сих пор. Она видела только мамино лицо, молясь, чтобы месье Омон в свои последние секунды сказал правду и мама действительно в безопасности.
– Бегите из Франции, если можете. И будьте осторожны.
Слова прошелестели сквозь воздух; расчетливый тон исчез, приняв почти заботливый оттенок, и Эстелла твердила это напутствие про себя всю дорогу к дому. Мама, ты тоже будь осторожна. Я иду.
* * *
Консьерж, к счастью, храпел в кресле, и Эстелле не пришлось оправдываться за свой перепуганный вид и мужской смокинг поверх платья. Она взбежала по винтовой лестнице на верхний этаж, прыгая через ступеньки. По телу прокатилась волна облегчения – мама сидела в темной кухне и пила кофе. Однако облегчение испарилось, когда Эстелла заметила, что мама очень бледна, а кофе выплескивается из чашки – так дрожат ее руки.
– Рассказывай! – крикнула Эстелла от двери.
– Я знаю очень мало, – прошептала мама. – Месье Омон, наверное, работал на англичан. Конкретно он мне не говорил. Ему было нельзя. Но у него много двоюродных братьев, сестер и племянников – в Бельгии, Швейцарии и Германии, разумеется, все евреи; он передавал дальше полученную от них информацию. Еврейский народ не любит нацистов, Эстелла. И месье Омон их не любил. И я тоже.
– И я не люблю. Но разве это значит, что ты должна рисковать жизнью?
– А как ты думаешь, что я должна делать? Ты их видела. Детей, которых мы помогали OSE[22] переправлять из Германии во Францию… Мы могли разве что обнять их и накормить супом. Их лишили родителей, и только потому, что у тех другая религия. Если мы можем помочь, нельзя стоять в стороне.
Конечно, они помогали. Стоять в стороне и ничего не делать значило отречься от Парижа, отказаться от сострадания, согласиться с тем, чтобы мир захватили чудовища.
– Насколько ты в это вовлечена?
Мама отпила глоток кофе.
– Немного. Всего лишь была доверенным лицом месье Омона. И помогала ему найти в толпе на Северном вокзале нужных людей. Одному человеку легко проглядеть красный шарф или зеленый берет. Потом он возвращался на вокзал и провожал меня домой, после того как выполнял задание. Но сегодня не вернулся.
– Он умер, мама.
– Умер? – Всего одно слово. Будто спустили петлю и ткань жизни распалась. Мама выставила вперед руку. – Не может быть…
– Я его видела. И передала несколько карт по его просьбе.
– Что? Что ты сделала?
Эстелла крепче сжала руку матери и рассказала ей, что случилось. Дом, кровь, театр, незнакомый мужчина, который обещал позаботиться о теле месье Омона.
– Думаю, он сдержит слово, – тихо сказала Эстелла.
– Теперь и ты замешана. – От ужаса лицо мамы лишилось всех красок. – Кругом шпионы. И кто знает, много ли времени осталось до того, как вермахт в полном составе будет здесь. – Мама набрала в грудь воздуха и выпрямилась. – Ты должна уехать из Франции.
– Никуда я не уеду.
– Уедешь. – В голосе мамы появились решительные нотки. – Тебе больше нельзя оставаться здесь. Если кто-то тебя видел сегодня вечером… – Она не договорила.
– Меня никто не видел.
– Если ты держала в руках карты, легко можешь кончить так же, как месье Омон. И в Париже ты так навсегда и останешься мидинеткой в мастерской, подобно мне. Я отправлю тебя в Нью-Йорк.
– Мне нравится быть мидинеткой в мастерской.
Нью-Йорк! Просто смешно.
– Не бывать тому. Посмотри на свое платье. Так шьют настоящие кутюрье. Война в самом разгаре. Скоро в Париже позабудут о моде.
– Что я буду делать в Нью-Йорке? – Эстелла старалась говорить непринужденно, как будто речь шла о шутке. Однако стоявшая перед глазами картина – тело месье Омона, распростертое на земле среди сорняков, и осознание того, как близко оказалась мама к опасности, заставили ее голос сорваться. – Я не хочу ехать одна.
– Придется. Месье… – Мама запнулась, ее глаза наполнились слезами. – Месье Омон попросил меня, еще несколько недель назад, взять на себя мастерскую, если с ним что-то случится. Наше ремесло умирает. Я должна не дать ему исчезнуть, должна сдержать обещание. И я сегодня не прикасалась к этим картам. А вот ты…
– Мне ничто не угрожает. – Она вспомнила слова незнакомца, сказанные ей в последний момент: «Бегите из Франции, если можете».
– Месье Омон тоже так считал.
Эстелла встала и нашла в буфете бутылку портвейна. Налила по бокалу себе и Жанне и мгновенно осушила свой, не в силах представить себе жизнь без мамы. Кто, как не она, разрешила ей сесть за швейную машинку в пять лет? Кто, как не она, приносила домой лоскутки ткани, чтобы Эстелла могла сшить еще больше фантастической одежды для своей тряпичной куклы? Кто, как не она, позволяла дочери по выходным и по вечерам, когда приходилось работать допоздна, сидеть у своих ног под столом и творить собственные версии цветков из обрезков материала?
Они все делали вместе, Эстелла и мама. Каждую субботу шли на рынок Лез-Аль и покупали еду на неделю. Каждое воскресенье молились в церкви Сен-Поль-Сен-Луи. Лежали бок о бок на единственной кровати, порой обсуждая, как Эстелла, Рене и Ютт развлекались в La Belle Chance, а порой засыпая мертвым сном, потому что Эстелла допоздна рисовала эскизы. У них никого не было, кроме друг друга. Никогда.
Иногда Эстелле хотелось иметь сестру, чтобы даже после ухода матери чувствовать, что у нее, к счастью, есть семья. Но это желание неосуществимо. Когда Жанна – не дай бог! – умрет, Эстелла останется одна. А отсутствие отца было единственной темой, которую мама никогда не обсуждала – кроме того факта, что он погиб в Мировую войну.
Эстелла вновь села и взяла маму за руку, ища поддержки.
– Корабли не выходят в море, – решительно возразила она. – Разве что пробраться в Геную… Но это невозможно.
– На прошлой неделе американский посол дал объявление в «Ле матен», в котором призвал всех граждан США немедленно отправляться в Бордо, где их будет ждать последний пароход до Нью-Йорка.
– Я гражданка Франции. Что мне с того?
Мама резко встала и пересекла маленькую квартирку, из которой большинство людей в здравом уме были бы рады сбежать: шестой этаж, ни водопровода, ни лифта, крошечные комнаты – одна спальня, кухня и она же столовая, стол в которой использовали чаще для шитья, чем для еды, оставшееся место занимает диван. Никаких красивых безделушек, лишь самое необходимое: чашки, тарелки, кастрюли, одежда и, конечно, швейная машинка. Однако это все, что они могли позволить себе на жалованье мидинеток.
Жанна достала свою boîte à couture[23], старинную коробочку из букового дерева, – самую красивую в их жилище вещь. Литография на крышке изображала несколько диких ирисов, колышущихся на сильном ветру. Эстелле всегда казалось, что стебли изгибаются в танце и символизируют скорее непокорность, чем слабость и согласие подчиниться воле урагана. Мама открыла коробку, вынула иглы, серебряный наперсток, катушки ниток и тяжелые ножницы. На самом дне она нашла документ и протянула его Эстелле.
– У тебя есть американский паспорт.
– Что? – переспросила Эстелла.
– У тебя есть американский паспорт, – настойчиво повторила Жанна.
– Сколько ты заплатила за него? Кто поверит фальшивым документам, особенно сейчас?
– Паспорт подлинный.
Эстелла протерла глаза.
– Откуда у меня мог взяться американский паспорт?
Пауза длилась бесконечно. Когда мама наконец заговорила, Эстелла едва ли не физически ощутила, как некая струна натянулась и затем оборвалась.
– Твой отец был американцем, и ты родилась там.
– Мой отец – французский солдат, – упорно твердила Эстелла.
– Это не так.
На комнату, как тяжелая джутовая завеса, опустилось молчание, мешая вдохнуть. Теперь пришла очередь мамы осушить до дна свой бокал.
– Однажды я ездила в Нью-Йорк, – наконец сказала Жанна, – и там родила тебя. Я никогда не собиралась говорить об этом, но сейчас самое главное – твоя безопасность.
Эстелла развернула бумаги и прочитала свое имя. Документы подтверждали мамины слова.
– Но как?
По маминым щекам покатились слезы.
– Мне больно рассказывать.
– Мама! – воскликнула Эстелла, напуганная видом плачущей матери. – Прости меня. Я всего лишь пытаюсь понять.
– Сейчас не до этого. Тебе нужно уехать из Парижа. Посольство организовало последний, дополнительный поезд, он отправляется завтра. На прошлой неделе я ходила в посольство и все выяснила. На всякий случай. Тогда я не решилась признаться. Боялась потерять тебя. А вот теперь придется.
– Разве я смогу тебя бросить? – Голос Эстеллы срывался. Она не представляла себе, как сядет в поезд, полный американцев, и проедет через охваченную войной страну, чтобы попасть в Бордо, взойти на пароход как гражданка США и отправиться в Нью-Йорк. Одна, без мамы.
– Ты сможешь. И ты уедешь.
Вместо ответа Эстелла разрыдалась.
– Милая, – прошептала мама и крепко обняла дочь, прижав ее голову к своей груди. – Не плачь. Если ты плачешь, я тоже заплачу. И больше не остановлюсь.
Мама произнесла эти слова с таким безысходным отчаянием, что Эстелла лишилась самообладания и не послушалась. Наоборот, она зарыдала так, как никогда прежде не рыдала, представив маму одну в мастерской, одну в квартире, одну на их общей кровати. Неизвестно, сколько лет они проведут в разлуке, прежде чем смогут увидеться вновь, и смогут ли вообще?
Глава 3
Утро началось с завывания над Парижем пикирующих бомбардировщиков – они сбрасывали бомбы на расположенный неподалеку завод «Ситроен». Эстелла понимала: как бы она ни надеялась, что мама передумает, бомбежка лишь укрепит ее в намерении заставить дочь уехать из страны.
Проведя мучительное утро в тесном бомбоубежище, Эстелла с мамой молча заторопились на вокзал Аустерлиц. Небо, еще недавно по-летнему ясное, заволокло дымом, в воздухе висели гарь и копоть.
– Надеюсь, поезд придержат, – тихо повторяла мама, а Эстелла надеялась на обратное: что во время бомбежки поезд каким-то образом сумел отправиться по расписанию и у нее нет иного выбора, кроме как остаться с матерью в Париже.
Ночью никто не постучался в дверь. Никто ее не разыскивал. Ведь молодая девушка, которая знает так мало, не должна привлечь чье-либо внимание, не правда ли? Однако следом Эстелла вспомнила о предупреждении незнакомца: бегите! А вдруг, оставшись дома, она навлечет опасность на маму? От этой мысли она содрогнулась и теперь старалась не отставать от Жанны; чемодан и швейная машинка уже набили ей синяки на ногах. Большую часть места в чемодане заняла мамина коробка со швейными принадлежностями. Жанна настояла, чтобы Эстелла взяла ее и швейную машинку с собой. Дочь не могла представить, как мама будет жить без этих двух вещей. Однако еще больше она не могла вынести боль в глазах матери, когда попыталась отказаться от подарков. Так что взяла их в знак благодарности, чтобы иметь при себе два драгоценных предмета, которые будут напоминать о маме всякий раз, когда доведется ими пользоваться.
Вокзал Аустерлиц был настолько переполнен, что они едва смогли пробиться сквозь толпу. Утренняя бомбардировка вызвала ужас, распространившийся по городу, подобно пожару. После того как две сотни немецких самолетов сбросили множество бомб так близко к жилым домам, мало кто из парижан хотел остаться и увидеть, чем закончится очередной налет. Пол усеивали брошенные чемоданы, предметы мебели, другие вещи, которые невозможно было втиснуть в поезда – осколки ваз и торшеров, плюшевые мишки с оторванными лапами, разбитые напольные часы.
Было жарко, очень жарко; пот струился по спине Эстеллы, одетой всего лишь в легкое летнее платье. Она жадно глотала воздух, но близость множества тел и летний зной тут же отбирали его.
Эстелла вдыхала отчаяние, сочившееся из пор; отчетливее всего оно проявлялось, когда грудных детей передавали над головами и укладывали на столы для багажа, чтобы тех не раздавили в толпе – оттуда матери собирались их взять, добравшись до платформы. Однако некоторые матери, увидев, как поезд отправляется, садились в дальние вагоны, думая, что детей уже погрузили, и слишком поздно понимали – младенцы остались на перроне. Эстелла видела, как женщины колотили руками по стеклам и открывали рты в беззвучном крике. Кто теперь позаботится о младенцах? Она сжала руку матери.
– Сюда, – сказала Жанна, протискиваясь к наименее переполненной платформе и старательно отводя глаза от женщин, потерявших своих детей.
Когда они приблизились к поезду, специально выделенному для граждан США, Эстелла почувствовала себя виноватой. Она самозванка; что в ней есть американского, кроме акцента? Да и тот усвоила случайно, потому что брала уроки английского у американца. Поезд был заполнен, однако не настолько сильно, как все другие составы, где люди занимали даже туалеты, чтобы в вагоны вместилось больше пассажиров. Здесь стены платформы не покрывали сотни надписей мелом, которые люди оставляли своим близким, чтобы дать знать, где их искать. У счастливчиков из всех возможных направлений было лишь одно: Америка. Здесь не оставалось брошенных детей.
Здесь были мужчины в элегантных костюмах и начищенных ботинках, некоторые с женами – в легких летних платьях, шляпках, перчатках и туфлях-лодочках. А вот французы на соседней платформе напяливали на себя по три платья, пальто, свитера – все, что не уместилось в чемоданы.
Как-то слишком быстро Эстелла добралась до проверявшего документы человека. Она протянула ему паспорт и сжала мамину руку.
– Пожалуйста, расскажи о моем отце.
Жанна решительно покачала головой.
– Сейчас не время. Будь умницей, милая. – Она поцеловала дочь в щеку.
Эстелла повисла у матери на руке и слабо улыбнулась.
– Я всегда умница.
– Ты, как всегда, не слушаешься, – в шутку проворчала мама. – Обещай, что не изменишься. Всегда оставайся такой, как сейчас.
У Эстеллы перехватило горло, и она не смогла произнести нужных слов. Спасибо. Никогда, никогда тебя не забуду. Будь осторожна. На мамину блузку скатилось несколько слезинок.
– Пора, – поторопила мама и отступила на шаг, легонько подталкивая дочь к поезду – как ребенка, который отказывается идти в школу.
– Я люблю тебя, мама. – Эстелла наконец сумела справиться с собой. – Вот, возьми. – Она протянула Жанне пакет с блузкой из остатков золотого шелка, которую шила всю ночь. – Надевай ее, когда будешь грустить.
– Иди. – Эстелла еще не видела такого выражения на мамином лице. С Жанны словно сорвали маску спокойствия, обнажив все, что раньше было скрыто: любовь к дочери и одновременно безысходный страх.
Эстелла заставила себя войти в вагон. Она перегнулась через мужчину – тот крикнул ей: «Осторожнее!» – и различила сквозь стекло, как платформа двинулась назад, унося с собой маму. Только теперь Эстелла поняла, что видит ее последние секунды. Жанна повернулась к поезду, обшаривая глазами вагоны, послала воздушный поцелуй и прижала к сердцу ее блузку, последнее воспоминание о дочери. И все, она исчезла.
Эстелла вытерла глаза и села на свое место, все еще проигрывая в памяти мамин образ. Она молилась, чтобы благополучно доехать до Бордо, по-прежнему опасаясь, не развернут ли ее там. Невозможно поверить в то, что сказала мама в последнюю ночь. Неужели ее отец – американец и она родилась в Америке?
Однако как только поезд выехал за город, Эстелле стало не до загадок собственной жизни. Увиденное потрясло ее. Тысячи женщин, одетых в брюки, гордо шагали вдоль путей. Они отказались от платьев, не подходящих для путешествия, в которое они пустились, и повязали волосы косынками в патриотических цветах – красном, белом и синем. Высокие тополя вдоль дороги словно копировали женщин с их гордой осанкой; длинные тени деревьев, казалось, указывали путь туда, где люди найдут пристанище. Но по мере того как поезд удалялся от Парижа, а желанное убежище не спешило материализоваться, Эстелла стала различать на лицах отчаяние – большее, чем у нее, и гораздо большее, чем она могла себе представить.
Все разговоры умолкли, когда поезд нагнал гигантскую колонну изнеможенных людей, уже много дней идущих пешком из Бельгии, с севера Франции и из самого Парижа. Женщина с кошкой, ребенок с птичьей клеткой, старик, толкавший впереди себя тележку с кучей малышей, детская коляска с больной старухой, девочка, сжимавшая в руках куклу, чемоданы, кастрюли, домашние животные, узлы, одеяла… В основном это были женщины и дети, мужчины попадались редко. Некоторые ехали на велосипедах, но большая часть людей шла пешком. Машины с пристегнутыми к крышам тюфяками для защиты от бомб не могли пробиться сквозь толпу. Запряженные лошадьми подводы пытались объехать колонну. Фургоны и грузовики непрерывно сигналили; они были настолько перегружены, что Эстелла удивлялась, как у них еще не вылетели стекла.
Когда поезд ускорил ход, Эстелла увидела лежащие у самой дороги тела. Эти люди не двигались. Старики, которые не смогли идти так долго, питаясь скудной пищей. Она вновь принялась плакать, обхватив себя руками. Она не видела этого раньше, иначе не смогла бы вчера надеть золотое платье и веселиться. Еще совсем недавно Эстелла наблюдала, как витражи Сен-Шапель заворачивали в парусину и уносили на хранение. Тогда она пришла в ужас от догадки – значит, правительство полагает, что Париж начнут бомбить, – и в то же время обрадовалась; ведь красоту ее города сберегут. Теперь Эстелла видела в этом напрасную трату сил: если правительство знало о грядущих бомбежках, то почему они не взяли людей, не завернули в парусину и не спасли вместо неживого стекла?
* * *
Пароход «Вашингтон» был увешан таким количеством американских флагов, что выглядел как необычная реклама страны, да, по сути, именно рекламой и являлся; флаги предназначались для того, чтобы никто не усомнился – это не военный корабль, его нельзя обстреливать или торпедировать, а нужно позволить ему добраться до Америки невредимым, не разделив судьбу многих других затонувших с начала войны судов. Эстелла взошла на палубу с открытым от удивления ртом, не в состоянии постичь, как нашлось время, чтобы при помощи кранов погрузить на борт автомобили богатых людей, позволить им увезти с собой из Франции то, без чего они не могут жить. А вот она оставила в Париже самое ценное – маму.
Судно оказалось заполнено лишь наполовину, что вновь удивило Эстеллу – неужели нельзя взять некоторых из отчаявшихся людей, которые наводнили Францию, пусть даже без документов? – однако затем выяснилось: они поплывут в Лиссабон, где подберут тех, кто не успел попасть на борт в Бордо. Теперь пароход был забит; раскладные койки поставили в главном салоне, в библиотеке, во дворике, называвшемся «Палм-Корт»; даже в бассейне спустили воду и оборудовали там спальные места. Несмотря на перегруженность, на корабле было тихо, словно вместо людей там обитали призраки, видимые, но безмолвные. На лицах читались невысказанные страх и тревога, особенно после того, как всем приказали на ночь класть под подушку спасательные жилеты. Каждый день приходили сообщения о новых потерях. Немецкие войска ломились в двери Парижа. Правительство увиливало от ответа, а затем тоже сбежало. Париж был усеян пеплом от сожженных бумаг – министерства уничтожали документы, чтобы те не попали в руки врага.
Рано утром одиннадцатого июня, когда пароход шел из Лиссабона в Голуэй, чтобы взять новых пассажиров, Эстелла решила выйти на палубу в неурочный час – ей не спалось. За пределами парохода царила темнота, однако там, где стояла Эстелла, небо казалось подсвеченным – американские флаги усиленно освещали прожекторами, хотя это скорее привлекало внимание, чем позволяло судну проскользнуть незамеченным. Эстелла и сама сияла в своем золотом платье, которое надела, представляя, что вместо шелка ее обнимают мамины руки. Она закрыла глаза и вообразила маму в подаренной блузке. Так рулон шелка соединил их через океан.
В памяти звучали последние мамины слова: «Всегда оставайся такой, как сейчас». Только вот кто она теперь – без дома, без работы, без семьи, да еще и со лживым выдуманным прошлым?
Она ощутила рядом чье-то присутствие.
– «Лаки Страйк?» – произнес мужской голос.
– Откуда у вас американские сигареты? – спросила Эстелла. Мужчина с волосами песочного цвета и янтарными глазами дружески улыбался ей, внушая что угодно, только не опасения. Она взяла сигарету и с благодарностью затянулась.
– Мои родители в прошлом году привезли с собой во Францию несколько коробок. Хотя мы все много курим, сигареты еще не закончились.
– Они не знали, что у нас во Франции тоже есть сигареты?
– Вы француженка?
– Да, – с гордостью заявила Эстелла. – Но родилась в Америке.
Слова выстрелили, подобно сигнальной ракете в ночи – дерзко и угрожающе.
– Тогда вас, вероятно, заденет, если я скажу, что, по мнению моих родителей, курить «Голуаз» – все равно что курить землю.
– Зато курить ваши сигареты – все равно что курить воздух, – парировала она, слегка улыбнувшись.
Мужчина прижал руку к сердцу, как будто зажимал рану. Он признал себя побежденным.
– Вы считаете, французы храбрее нас?
– Нам приходится быть смелыми. В Америку никто не вторгался. – Эстелла стряхнула пепел за борт, в темную воду, где таились бог знает какие ужасы: подводные лодки, торпеды… Об айсбергах никто больше и не задумывался.
– Кстати, меня зовут Сэм. И я прошу прощения.
– Эстелла. Вы ни в чем не виноваты, разве что тоже собираетесь штурмовать Париж. А что вы делали во Франции?
– Мой отец – врач, мама – медсестра. Они работали в Красном Кресте, а теперь уезжают.
– Разве сейчас люди не нуждаются в Красном Кресте больше, чем когда-либо?
– Да, но мама больна. Несколько недель назад получила ранение. Один солдат в госпитале случайно выстрелил из винтовки, началась инфекция.
– Она поправится? – Эстелла спохватилась, что и у других людей есть матери, о которых они переживают.
– С ней все будет хорошо. Отец тоже чувствует себя не в своей тарелке. Как будто сбегает. Но, по-моему, на самом деле он рад поводу уехать. Если бы не мамина болезнь, мне тоже пришлось бы остаться.
– Вы тоже врач?
– Нет. – Он помедлил. – Вы будете смеяться.
– Тогда говорите. В наше время смех – самая нужная вещь.
Сэм улыбнулся:
– Тогда ладно. Ради того чтобы рассмешить вас, сознаюсь. Чтобы поехать с родителями во Францию, я отучился год на медицинском факультете, однако работал закройщиком в доме высокой моды. А причина, по которой я заговорил с вами, проста: я пытаюсь угадать, кто сконструировал ваше платье. Покрой похож на Вионне, однако современный, в стиле Маккарделл. Кто бы ни был этот модельер, я не прочь с ним поработать.
– Маккарделл?
– Клэр Маккарделл. Американский модельер.
– Так вот, она здесь ни при чем. Платье сконструировала я сама.
Сэм присвистнул:
– Где вы научились такому?
– Меня учила шить мама. Я почти всю жизнь провела в швейной мастерской, делала искусственные цветы. Потом год посещала парижский филиал нью-йоркской «Новой школы». А когда он закрылся, начала по выходным ходить на рынок Карро-дю-Тампль, покупала все, что могла себе позволить из секонд-хенда. Приносила домой, распарывала швы и вновь прострачивала, чтобы видеть, как пошита одежда. А на следующей неделе обменивала на другую, и так далее.
– Тогда вы поймете меня, когда я скажу, что мне проще кроить ткань, чем резать людей скальпелем. Держите. – Он подал ей другую сигарету, потому что первую, единственную за много дней, она выкурила моментально.
– И как же студент-медик стал закройщиком в доме моды?
– Моя мама, как и ваша, всегда была хорошей портнихой. Я единственный ребенок и помогал ей в детстве. Родители постоянно лечили не очень богатых пациентов с Манхэттена, делали им процедуры, и я часто играл в прихожих итальянских и еврейских портных и польских закройщиков. Там и нахватался. А когда все мужчины в Париже ушли воевать, освободились рабочие места. Как раз для меня.
– Наверное, вы хороший закройщик, если получили работу в доме высокой моды, – сказала Эстелла. В этот момент ночное небо прорезала вспышка света.
– Что за черт? – воскликнул Сэм.
– Не знаю. – Эстеллу охватил страх.
Двигатели судна заглушили. Внезапно опустившаяся тишина, нарушаемая только плеском волн о борта, казалась страшнее любого шума. Водонепроницаемые люки задраили, взвыла сирена. Затем объявили: всем пассажирам погрузиться в спасательные шлюпки.
– Что происходит? – спросила Эстелла, не ожидая ответа. Она припомнила корабли, подорванные немцами за последний год.
– Немцы, – подтвердил Сэм.
Ну вот и все, подумала Эстелла. Посреди океана, окруженная черной водой и еще более черной ночью. Одна, без мамы. Ни одной знакомой души рядом, только Сэм, молодой человек, с которым она всего-то выкурила вместе по паре сигарет.
Как это произойдет? Она вцепилась в сигарету так крепко, что не смогла втянуть в себя дым. Будет взрыв? Или бомба неслышно проскользнет под водой, подобно акуле, и ударит по кораблю в тот миг, когда люди меньше всего этого ждут, и они не осознают, что умирают? Черт бы побрал того темноволосого мужчину из театра Пале-Рояль! Если бы не он, она не оказалась бы здесь.
«Я люблю тебя, мама», – мысленно проговорила она.
– Идемте со мной, – позвал ее Сэм.
– Вам лучше пойти к родителям. Я справлюсь.
Эстелла старалась выглядеть спокойной, словно очутиться на пароходе, который вот-вот торпедируют, еще не самое страшное, что когда-либо с ней случалось. Она затянулась сигаретой для храбрости. Вокруг толпились пассажиры; офицеры кричали в мегафоны, что «Вашингтон» попал под прицел немецкой подводной лодки.
– Сделайте мне одолжение, – сказал Сэм. – Первыми в шлюпки должны сесть женщины и дети. Мама на грани истерики, а ни отцу, ни мне не разрешат быть рядом. Может, вы присмотрите за ней вместо меня?
Эстелла подозревала, что Сэм преувеличил нервозность матери, однако все равно была рада.
– Хорошо, – ответила она и двинулась за Сэмом. Он протискивался сквозь толпу на палубе, разыскивая своих родных.
Мать Сэма как раз сажали в шлюпку против ее воли.
– Сэм, – воскликнул отец, – слава богу!
– Это Эстелла, – сказал Сэм матери. – Она составит тебе компанию, пока мы снова не будем вместе.
– Сэмми. – Мама поцеловала сына в щеку. – Я виновата.
– В чем? – озадаченно нахмурился Сэм.
– В том, что не позволяла тебе заниматься тем, чем ты хочешь. Знай, что если…
Если мы выживем.
– Ловлю на слове, – сказал Сэм и повернулся к Эстелле: – Я буду высматривать тебя в шлюпке.
Слова побудили ее к действию.
– Конечно, – решительно ответила она. Потому что единственным, за что можно держаться, оставалась надежда, какой бы мимолетной и ускользающей та ни была. Эстелла не позволит немцам отобрать у нее и надежду, подобно тому как ее отобрали у людей, чьи тела лежали вдоль железной дороги. Она села рядом с матерью Сэма.
Спуск на воду проходил спокойно и организованно, чего Эстелла не ожидала. Никто не кричал и не вопил, вообще мало кто плакал – возможно, потому, что все произошедшее с людьми за последнюю неделю было уже за пределами страха; они слишком многое видели и потеряли способность к нормальной человеческой реакции. Во всяком случае, Эстелла чувствовала себя именно так, когда услышала от членов команды, что немцы дали им десять минут на эвакуацию с парохода, то есть предоставили шанс выжить, болтаясь на волнах где-то посреди открытого моря в надежде, что кто-нибудь их спасет.
Эстелла взяла руку матери Сэма и стиснула ее. То же самое она сделала бы для своей мамы. Женщина выглядела так, словно в любой момент может раствориться, превратиться в ничто – спина сгорблена, плечи опущены, голова вжата в плечи.
– Спасибо, милая.
Другой рукой женщина вцепилась в вырез своего платья, отделанный серебристыми пайетками и розовым бисером. Эстелла узнала превосходную копию модели «Циклон» от Ланвен: знаменитое вечернее платье с двухуровневым вихревым подолом из серой шелковой тафты, предназначенное для бала, а не для спасательной шлюпки посреди Атлантики, в которую целится немецкая подлодка.
– Наверное, ты сочтешь меня немного сумасшедшей или крайне легкомысленной, раз я вырядилась в вечернее платье при таких обстоятельствах, – извиняющимся тоном произнесла она, перехватив взгляд Эстеллы. – Отец Сэма так и подумал. Устроил нагоняй, когда я его надела.
Она слегка расстегнула пальто, и Эстелла увидела боковой карман с декоративной отделкой; чернильного цвета ткань была темна, как окружавшая их ночь, и в то же время блеснула, подобно надежде.
Эстелла указала на свое платье:
– Что ж, значит, я тоже сумасшедшая.
– Это платье придает мне смелости. – Мать Сэма выпрямилась и расправила плечи. – Стоит только его примерить, как я ощущаю себя своей улучшенной версией. Пусть на один вечер, но становлюсь той женщиной, какой всегда хотела быть. Хотя вряд ли ты поймешь…
Эстелла ощутила слезинки в уголках глаз.
– Я вас всецело понимаю, – ответила она хриплым от волнения голосом.
Она действительно понимала. Подобно тому как нарядная одежда придала мужество матери Сэма перед лицом немецкой подлодки, девять дней назад Эстеллу преобразило платье из золотого шелка, сделав ее женщиной, которая думает о всеобщем благе больше, чем о себе, и готова выполнить бессмысленное поручение и встретиться в театре с незнакомцем, потому что человек, которому она доверяет, сказал, что так надо. А чуть раньше Эстелла стояла на палубе, и платье утешило ее, напомнив о матери, которая прижимала к груди блузку взамен дочери.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: