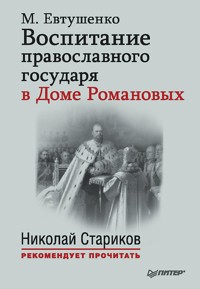
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Питер
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Воспитание государя – что может быть важнее? От волевых и моральных качеств того, кто встанет во главе государства, зависит судьба народа и державы. А значит, воспитание наследников престола всегда было важнейшей задачей для страны. Из книги «Воспитание православного государя в Доме Романовых» вы узнаете: •Как воспитывали православных государей в Российской империи. •На чем основывалась уникальная система их воспитания. •Кто учил наших царей. •Какие последствия имели просчеты и ошибки в их образовании, и к чему это приводило. Имен учителей наших государей мы практически не знаем. А ведь англофилия учителя Александра I во многом объясняет будущие наполеоновские войны. Когда наша страна била Бонапарта и гоняла его по Европе… на радость нашим британским «партнерам». И пока русские солдаты совершали свои подвиги, англичане прибрали к рукам всю морскую торговлю, захватили почти всю Индию и другие стратегически важные заморские колонии Франции. Образование и воспитание главы государства — это не только педагогика и богословие, это также геополитика и экономика. Книга, написанная научным сотрудником Государственного Эрмитажа Мариной Маевной Евтушенко, покажет нам политику прошлого с неожиданной стороны. А как вы воспитываете своих детей?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
М. Евтушенко
Воспитание православного Государя в Доме Романовых. С предисловием Николая Старикова. — СПб.: Питер, 2024.
ISBN 978-5-496-01556-1
© ООО Издательство "Питер", 2024
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Оглавление
Предисловие Николая Старикова
Роль личности в истории не отрицает никто из тех, кто серьезно изучает исторические процессы. Судьба страны, судьбы миллионов зависят от сравнительно небольшого круга лиц. И это правило никак не меняется в зависимости от социального строя. При монархии главные проблемы государь обсуждает со своим окружением, при республиканском способе правления вопросы войны и мира также не выносятся на всенародное голосование. Таким образом, от компетентности политической элиты при любой государственной системе зависит судьба страны.
Ну а чем, как не воспитанием, закладываются основы мировоззрения и понимания мировой политики у будущих руководителей державы? Значит, воспитание является важнейшей составляющей будущего успеха народа и цивилизации. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о мало известных современному читателю аспектах воспитания русских царей и цариц. Уникальность Русской цивилизации, сохранившей в неизменности исконное православие, обусловила уникальность системы воспитания наших монархов, корни которой уходят в Византийскую империю.
В России власть всегда носила сакральный характер. Так было и при империи, и во времена Советского Союза. Это свойственно ей и сегодня. Как бы ни назывался глава государства, в нем всегда видят отца нации, «царя-батюшку» и требуют от него сверхчеловеческих умений и знаний. Не менее высоко поднята планка и в сфере морали и нравственности. Глава Русской цивилизации обязан являть собой образец нравственности, образец служения Отечеству. Духовное воспитание, безусловно, не было единственным ориентиром при формировании личности русского царя. Но народ России всегда хотел и хочет сегодня видеть «царя-батюшку» именно таким: свободным от страстей, тщеславия и сребролюбия. Национальный лидер России должен научиться усмирять свой гнев и желание удовольствий, быть воздержанным, добрым и справедливым. Поэтому попытки разрушения нашего государства в прошлом всегда начинались с очернения его руководителей. Точно такое же стремление посеять смуту в обществе мы наблюдаем и сегодня.
Задача воспитания образцового государя, справедливого, умного, ставящего интересы державы превыше всего, никогда не была простой. Основой такого развития неизменно являлось православное воспитание наследников престола, их жен и невест, а также великих князей. Современному российскому читателю будет интересно познакомиться с особенностями и результатами этого воспитания, а также с духовными пастырями наших царей. Рискну предположить, что даже тем читателям, которые отлично знают историю России, не слишком хорошо известна эта сторона исторической реальности. А ведь наши цари, воспитанные на ценностях православной веры, вели геополитическую борьбу с врагами Российского государства, которая продолжается с прежним накалом и сегодня. Изменений почти нет, разве что врагов теперь называют «партнерами».
Предлагаемая вашему вниманию книга, основанная на ранее не опубликованных документах и содержащая множество интересных фактов, написана научным сотрудником Государственного Эрмитажа. И уже только поэтому она может открыть много нового всем тем, кто интересуется историей России. Автор подробно рассказывает, каким образом складывалась система воспитания будущих российских императоров: начиная с наследников Петра Великого и заканчивая последним императором Николаем II. Система формирования личности православного государя в том виде, в котором она дожила до крушения нашей империи, как и многое в истории России, была заложена Петром Великим. Именно он своим указом разрешил браки с инославными христианами. Для наследников династии Романовых он ввел обычай междинастических браков, и с этого времени русские цари стали заключать браки только с представителями других династий Европы, преимущественно из протестантских стран. Факты, изложенные в книге «Воспитание православного государя», очень интересно сопоставлять с геополитическими событиями, победами и поражениями русских царей.
Лично для меня интереснейшей частью книги стал рассказ о тех, кто воспитывал наших императоров. Феофан Прокопович, Симон Тодорский, владыка Платон (Левшин)…
Любопытно, что первым «классически» воспитанным православным монархом автор считает императора Павла Петровича. Рыцарь по духу, благородный и открытый, именно он был убит в результате заговора, убит на английские деньги с целью воспрепятствовать сближению России и наполеоновской Франции. А вот его сын — император Александр I как минимум знал о заговоре против отца. И, взойдя на трон, начал процесс сближения с Британией, что привело к войнам с Наполеоном, а в итоге и к его нашествию в 1812 году. Так вот, оказывается, в воспитании Александра Павловича был весьма силен «английский компонент». Причем именно в религиозном воспитании. Им занимался протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский, который был отправлен в Англию еще по воле императрицы Екатерины II. А в целом система воспитания ее внуков была почерпнута… из книг британского педагога и философа XVII века Джона Локка. Императрица так и говорила, что воспитывает внуков «по английской системе», отца детей — цесаревича Павла Петровича — к воспитанию не допускали… А.А. Самборский слыл в народе убежденным англофилом, состоял в английском «Обществе поощрения искусств» и был пропагандистом разнообразных достижений английской культуры. Сейчас бы о таком сказали: агент влияния…
Герасим Петрович Павский — учитель Закона Божия будущего царя-освободителя Александра II. Василий Борисович Бажанов, составивший богословско-просветительский труд «Обязанности государя и христианина», который лег в основу богословского воспитания русских императоров, на протяжении более чем 30 лет был духовником Николая I, Александра II и Александра III. Он причащал умирающего после нападения террористов царя-освободителя…
Иван Леонтьевич Янышев, церковный и общественный деятель, религиозный писатель и переводчик, стал законоучителем цесаревича Николая Александровича, последнего российского императора.
Ценности православной цивилизации, которые закладывались в качестве фундамента мировоззрения русских царей, и сегодня являются примером для того, кто хочет служить своему народу, заниматься политикой и вести Россию к новым достижениям, оберегая уникальную Русскую цивилизацию. Логика истории всегда проявляется из тумана геополитических схваток, которые, в свою очередь, есть отражение борьбы Добра со Злом.
И логика эта такова: воспитание главы государства обязательно оставит след в будущей истории страны.
Каково было воспитание, таков будет и след…
Введение
Воспитание христианского правителя, как и воспитание любого человека, наделенного властью, — процесс чрезвычайно сложный, многогранный и неисчерпаемый. Известно, что во все времена и во всех странах «торговля» своими властными полномочиями в целях личной выгоды, то есть коррупция, была проблемой практически неразрешимой. Расчет ведь не всегда бывал денежным: вспомним гоголевского чиновника, бравшего взятки борзыми щенками. Именно поэтому, начиная с античных времен, ученые и философы постоянно терзались вопросом формирования нравственного облика правителя и вообще этической стороны любой власти1. Античный философ Сократ, который активно критиковал тиранию, все же в основе власти полагал принцип законности, справедливо считая, что править должны только «знающие» и «аристократия мудрых».
Для отечественных исследователей вопрос отношения к власти приобретал особую актуальность и остроту, когда речь заходила о периоде Российской империи (1721–1917). Это был тот недолгий срок в истории, когда «варварская» Московия в глазах «просвещенной Европы» постепенно стала уходить в прошлое, а новая Россия только начинала выстраивать себя в соответствии общеевропейским законодательством, которое было принято во всем христианском мире на тот момент. Оно включало в себя и отношение к отдельной личности — «просвещенной» и «свободной», и отношение к частной собственности, которая провозглашалась «неприкосновенной». Правда, в большинстве случаев все эти воззрения и правила не касались «простых людей», а применялись лишь к высшей иерархии общества.
Когда же вопрос заходил о российском правителе, то именно в тот период, который именовался также «Синодальным», монарх исполнял одновременно обязанности главы государства и главы Церкви. Именно поэтому, на наш взгляд, на нем лежала двойная ответственность и именно потому так необходим был стране монарх, эту ответственность осознающий.
В предлагаемом читателям исследовании автор попытался проанализировать, каким образом складывалась система воспитания будущих российских императоров, как учителя-священники готовили их к высокому служению. В книге рассматриваются также предпосылки возникновения самой необходимости в учителях Закона Божия для правителей России, где народ изначально осознавал себя как носитель православия или «народ-богоносец».
Материал книги расположен хронологически, разделен на XVIII и XIX столетия, что обусловлено тематикой исследования. Биографии священников и характерные методы их преподавания даются на фоне краткого изложения последующей внешней и внутренней политики их августейших учеников. В книге также затрагиваются и практические вопросы, например каким образом складывалась система религиозного воспитания наследников престола и чем она принципиально отличалась от простой катехизации2 их подданных или великих князей — их младших братьев и сестер? Какие существовали особенности в православном воспитании «высоконареченных невест» наследников престола и был ли обязательным их переход в православие? Только ли обучение нравственному богословию отвечало за поведение будущих правителей? Можно ли вообще воспитать властителей, свободных от деспотических предпосылок, или, может быть, власть сама по себе порочна?
В работе был использован как широкий историографический материал: научные монографии, статьи периодической печати XIX–XXI вв., авторефераты диссертационных исследований, материалы научных конференций, нарративные источники (мемуары, дневники, автобиографии и переписка), так и не введенные ранее в научный оборот источники: документы из фонда Святейшего Синода Российского государственного исторического архива, фотографии.
Автор выражает глубокую признательность сотрудникам Государственного Эрмитажа: Галине Алексеевне Миролюбовой (кандидату искусствоведения), Валентине Ивановне Федоровой (кандидату искусствоведения), Елизавете Павловне Ренне (кандидату искусствоведения), Александру Михайловичу Гордину (кандидату исторических наук) и Сергею Владимировичу Томсинскому (кандидату исторических наук)
***
Одной из самых интересных и малоисследованных страниц истории Российской империи является система религиозно-нравственного воспитания наследников престола Дома Романовых периода Империи (1721–1917), начиная с потомков первого императора России Петра Великого и заканчивая последним императором Николаем (II) Александровичем.
Вопрос о духовных пастырях3 Московской Руси4 и царских духовниках5 в частности достаточно полно отражен в исследованиях XIX — начала ХХ в.6 Существуют отдельные монографии и статьи, посвященные наиболее выдающимся религиозным персонам, приближенным к царскому двору7.
Однако до настоящего времени не существовало исследования, в котором была бы предпринята попытка обобщить и проанализировать вопрос обучения Закону Божию применительно к наследникам российского престола. Поскольку монархическое правление в нашей стране основывалось на династическом принципе, то наследник, занимавший особое место в структуре самодержавия России, был чрезвычайно важной фигурой в государстве. Цесаревичи обеспечивали продолжение и устойчивость монархической династии, которая ни при каких обстоятельствах не должна была быть под угрозой. Даже совершеннолетие наследника юридически наступало в 16 лет, в отличие от его младших братьев, великих князей, которые считались взрослыми лишь в 21 год. Наследник престола, чьему воспитанию уделялось особое внимание, должен быть готовым в любой момент заменить на троне своего отца — правящего императора.
Христианская вера своими заповедями «не убий», «не укради», «не свидетельствуй ложно» определенным образом руководит поведением людей, ограничивая их неуемные инстинкты и налагая запреты на их помыслы и желания. Тем более это касается персон, по праву рождения стоящих на самом верху социальной иерархии.
Напомним, что с 1721 г. по итогам Северной войны Россия была провозглашена Империей. Само понятие «империя» заключает в себе определенный смысловой ряд. Так называют форму организации государства, при которой к метрополии добровольно или принудительно на определенных исторических этапах ее становления присоединяются новые территории. Земли могут быть заселены представителями различных национальностей и конфессий. При этом само государство управляется единым властителем — императором — и имеет одну доминирующую в государстве идеологию (религию).
В отличие от средневековой Московской Руси, в императорской России под влиянием западноевропейских традиций возникли институты, ранее для страны нехарактерные. В частности, изменился и законодательно закрепился определенный тип взаимоотношений между Церковью и государством, Церковью и властью, Церковью и народом. Упразднилась патриархия, установилось и укрепилось главенство коллективного органа — Святейшего Правительствующего Синода во главе с обер-прокурором, светским человеком, который напрямую подчинялся императору. Таким образом, постепенно религиозная и светская власть начали сливаться воедино.
К России за XVIII в. присоединились многие территории с разнородным населением, исповедующим ислам, иудаизм, язычество, а также множество различных христианских деноминаций. В страну на постоянное жительство, при условии гарантированной свободы вероисповедания, стали прибывать иностранные специалисты. Подданным Империи, в том числе и членам Императорского дома, были разрешены браки с иностранцами. Все это привело к расширению связей между представителями различных религиозных групп.
Но для того чтобы инославное население не чувствовало себя ущемленным и осознавало справедливость признания одного властителя и доминирование в стране одной религии, возникла необходимость это положение как-то обосновать, причем не только идеологически, но и фактически. Одного провозглашения закона (религиозного или светского) было недостаточно. Монарх должен был для всех своих подданных стать подлинным примером исполнения нравственного и юридического закона. И научить его этому должны были именно священники. Причем роль миссионеров и проповедников, произносящих свои предики8 в храме, уже была недостаточна. Они должны были стать поистине учителями, подобно древним византийцам, прибывшим на Русь в первые века христианства.
1См., например: «Утопию» Платона, «Политику» Аристотеля, «Левиафан» Томаса Гоббса, а также политическую философию Джона Локка, государственно-правовые воззрения Э. Канта и многих других мыслителей.
2 Катехизация (оглашение) — изучение основ христианской веры и чина церковной жизни человеком, готовящимся принять крещение и стать членом Церкви.
3 Духовными пастырями называют служителей церкви, которые по примеру Иисуса Христа наставляют в христианском учении адептов Церкви проповедью, личной беседой или примером своей жизни.
4 Хронологические рамки Московской Руси: начало XIV — начало XVIII в.
5 Традиция иметь духовника в царской семье восходит к периоду правления великого князя Василия III (1479–1533), при котором стала объединяться Русь.
6Смирнов С.И. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта // Чтения Общества истории и древностей Российских — 1914. Кн. 2, отд. 3.С. I–VIII, 1–290; Леонид (Кавелин), архимандрит. Духовники великих князей и царей Московских и всея России // Чтения Общества истории и древностей Российских — 1876. Кн. 1.С. 216–219; Извеков Н.Д. Московские кремлевские дворцовые церкви и служившие при них лица в XVII в. // Московская церковная старина. Труды комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины Москвы и Московской епархии. — М., 1906. Т. 2; Извеков Н.Д. Царский духовник XVII в. // Московские церковные ведомости. — 1903. — № 19. С. 292–295; № 20. С. 299–300; № 22. С. 320–323; № 28. С. 379–380; № 37. С. 470–471; № 38. С. 482–484; № 40. С. 496–499; № 42. С. 524–526.
7 Царский двор — общее название, включающее в себя резиденцию государя с его личными покоями, парадными залами и домовой церковью, а также штат обслуживающей царя прислуги (придворных).
8 Предики — устаревшее название проповедей и нравоучительных речей, произносимых в Церкви.
Часть первая
Глава 1. Учение о власти христианского монарха
Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. (Рим. 1:13)
Эти слова из послания апостола Павла к римлянам легли в основу православного учения о монаршей власти.
Христианская вера на территории Римской империи стала постепенно превращаться в официальную религию после принятия Миланского эдикта9. Вместе с новой верой начали складываться и новые мировоззренческие установки, новые принципы взаимоотношений светской и духовной власти, что отчасти отразилось и в богословских канонах, и в трактатах, и в юридических законах Рима.
Если в Античную эпоху властитель приравнивался к божеству, на него и смотрели как на Бога, позволяя ему все и всегда, что неминуемо вело к деспотизму, то с появлением христианства взгляды на принцип власти изменились. Образ властителя стал рассматриваться сквозь призму христианского вероучения, то есть эсхатологически10. Теперь уже властитель не мог себе позволить произвол и, чтобы считаться истинным царем, должен был лично исповедовать веру в Иисуса Христа. Ведь сам Христос говорил о себе, что Он пришел «не чтоб Ему служили, но чтобы послужить» (Мф. 20:28).
В отличие от Римской империи, существовавшей в прежней классической традиции, Византия была изначально задумана как христианское государство, и поэтому именно в ней поэтапно стали складываться новые взгляды на саму идею власти и на взаимоотношения государства и Церкви.
Обращаясь к древним свидетельствам, мы знаем, что первые христианские правители11 старались принять крещение не иначе как на смертном одре. Они справедливо полагали, что жизнь истинного христианина мало совместима с государственными обязанностями. Однако необходимость соединить в одном лице образ правителя и христианина потребовал определенного идеологического обоснования, что и прозвучало впервые при дворе первого христианского императора Константина Великого (IV в.).
Основы богословской концепции о власти заложил главный придворный богослов Евсевий Памфил, епископ Кесарийский. В своем трактате «Слово василевсу Константину по случаю тридцатилетия Его царствования» он провел историческую параллель, связав появление единого правителя Октавиана Августа (27 г. до н.э. — 14 г.н. э.), объединившего и сплотившего Рим в целостную империю, с Рождеством Единого Бога Иисуса Христа, даровавшего всем людям на земле учение благочестия. В своем тексте Евсевий развил мысль о том, что власть императора на земле прямо коррелируется с властью Бога на небесах, а Царство Земное должно быть отражением Царствия Небесного. В частности, он писал, что когда в Риме одновременно было установлено правление императора Августа и было произнесено учение Христа, «…тогда вдруг, как бы по мановению единого Бога, произросли для людей две отрасли добра: римское царство и учение благочестия»12. И далее автор, развивая свою идею, дополнял: «Сила Спасителя нашего сокрушила многоначалие и многобожие демонов и всем людям […] проповедала единое Царство Божие, а Римская империя, уничтожив сперва причины многоначалия, спешила все племена привести к единению и согласию»13.
Таким образом, с одной стороны, обожествлялась сама идея империи, собравшей людей разных наций и верований в единое сильное и могущественное государство, а с другой стороны, сакрализировался образ монарха, несущий свет христианского учения своим подданным. Это учение предполагало, что монарх изначально должен был креститься, чтобы принадлежать христианской вере и следовать ее заповедям.
По словам Евсевия, идеальный христианский император прежде всего должен быть истинным победителем в себе греха: свободным от страстей, тщеславия и сребролюбия. Он должен был научиться усмирять свой гнев и желание удовольствий, стараться быть воздержанным, добрым и справедливым. Как истинный друг «Всецаря Бога» он всегда должен желать «царства Божьего нетленного и бестелесного и молиться о получении его»14.
Согласно новой концепции, монарх — всего лишь земной человек, который может «участвовать» в воплощении «божественной власти […], может быть только живой иконой и эмблемой этой власти», слугой и помощником Господа, обращающим своих подданных от идолопоклонства к истинной вере15. Славословие подданных, в свою очередь, должно быть обращено не к императору, а к Богу, который один является виновником царствования земных владык.
Опираясь на утверждение апостола Павла, что «всякая власть от Бога», Евсевий Памфил утверждал, что правитель есть «помазанник Божий», свыше получивший мудрость царствования, и потому должен приводить «к единородному и спасительному Слову подвластных себе жителей земли», делая их готовыми для Царствия Небесного16.
В обязанности императора теперь стала входить забота не только о благосостоянии и безопасности своих подданных, но и о спасении их бессмертных душ.
Император, в свою очередь, должен почитать Истинного Бога и распространять это почитание в государстве. В противном случае он враг Церкви и гонитель христиан. Его нельзя считать истинным, легитимным правителем, а только не иначе как тираном и узурпатором, имеющим власть, но не обладающим необходимыми положительными качествами души. Самих же государей апостол Павел называл Божьими слугами, которые «не напрасно носят меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13:4).
Основные принципы взаимоотношений духовной и светской власти, а также равной ответственности василевса17 и патриарха за нравственное состояние своих подданных нашли отражение в шестой новелле Кодекса императора Юстиниана I (VI в.)18. Они вошли в историю под названием «Симфония властей» и начинались словами: «Величайшие блага людей, от человеколюбия дарованные свыше, — священство и царство. Одно, служа божественному, другое, о человеческом заботясь и управляя, из одного и того же начала вышли и привели в порядок человеческую жизнь»19.
Теперь уже законодательно светская власть была приравнена к духовной, а правители, священство и народ призваны были держаться этих высоких нравственных ориентиров.
С тех пор вся жизнь Византии, первой в мире христианской империи, стала утверждаться на «взаимодополняющем сотрудничестве и единстве, симфонии […] двух начал — священства и царства, Церкви и государства»20.
Эти идеи Евсевия Памфила и Юстиниана Великого, снискавшие горячую поддержку отцов Церкви, были развиты и поддержаны в последующие эпохи и нашли отражение в многочисленных богословских сочинениях и проповедях.
С момента принятия христианской веры на Руси в Х в. все явления жизни народа стали постепенно приобретать особый смысл и восприниматься в эсхатологическом контексте.
Русские люди поверили в то, что все в этом мире не зависит от произвола отдельного человека или всеобщего хаоса, а подчинено четкому порядку, что судьбы личности, города, страны и даже космоса не существуют бессмысленно, а имеют определенную цель, заложенную высшими силами.
Отсюда следовало, что цель жизни людей — исполнять закон Божий и следовать Его замыслу. Эта вера стала налагать моральные обязательства на каждую персону: от простого смерда до верховного властителя.
В проповеди первого русского митрополита Иллариона (1051), произнесшего у стен Киевской Софии свое знаменитое «Слово о законе и благодати»21, впервые прозвучала мысль о богоизбранности Руси, которая впредь была поставлена на особое историческое служение. В этой проповеди была сформулирована идея о высшей роли русского народа «хранить православие до Страшного Суда». Митрополит Илларион развил мысль о том, что своим крещением Русь обрела Благодать Божию — и теперь это не «худая» и «неведомая» земля, но ведомая и слышимая всеми концами света. Более того, она может надеяться на великое будущее, ибо оно предопределено Божиим Промыслом22.
В означенный период Киевская Русь еще не представляла собой единое целое, управляемое самодержавно, а распадалась на множество удельных княжеств. С именем удельного князя (или великого князя) связывали только значение первого воина (воеводы) и главного судьи, то есть хранителя закона. Князь был зависим от своих родичей, от дружины и от народа. Если поступки властителя были неблаговидны, то он терял доверие, лишался титула, княжества, власти, а то и самой жизни, ибо власть его не была наследственной и земля находилась в общинном пользовании.
Идея царя была знакома русскому народу с первых веков христианства благодаря тесным связям с Византией и распространялась преимущественно духовенством. При этом «царь греческий представлялся для нас типом самодержавной, ничем не ограниченной власти, типом высокого и великого сана, к которому доступ сопровождался изумительною для простых глаз торжественностью и обстановкой несказанного блеска и великолепия»23.
Русь, став духовной преемницей Византии, усвоила также ее сакральное представление о верховной власти. Это учение стало проникать в виде теологических сочинений, переведенных с греческого языка на русский, а также в виде проповедей византийских пастырей.
Важно отметить, что само учение о христианской монархии как о политическом идеале не являлось первым и центральным в православном вероучении, которое по сути теоцентрично24 и ставит во главе мироздания Бога, а не государя. Но Россия, уникальная в своей истории и выросшая на византийских корнях, земным представителем Бога всегда считала монарха, а земным воплощением Царствия Небесного — Святую Русь. Новый тип правителя складывался постепенно, но уже с XVII в. в челобитных великому князю стали появляться такие обороты, как «умилосердися, яко Бог» или «работаю я холоп ваш, вам великим государем, яко Богу»25.
Великий князь на Руси осознавал, что он обязан править, согласуясь с Божьим Законом, что его власть установлена свыше и произвол на его земле невозможен. Долг же великого князя состоял в том, чтобы максимально не допустить пришествия дьявола на своей территории, дать возможность христианам свободно славить Всевышнего и жить по Его заповедям, еретиков же исправить и поставить на путь истинный и в конечном итоге привести свой народ к спасению. В противном случае правитель, не сдерживаемый религиозными установками, становился деспотом и навеки обрекал свою душу к погибели.
Возможно, именно столь высокая планка, установленная для властителя Церковью, в древности побуждала великих князей на смертном одре принимать монашеский постриг, который приравнивался ко «второму крещению» и отпускал все его прежние грехи.
Такое представление о «власти от Бога» стало краеугольным камнем внутренней политики Московской Руси. Оно легло в основу многих богословских сочинений, предназначенных для образованной публики; оно же постоянно вдохновляло христианскую проповедь, ежедневно просвещающую малограмотную паству. Учение о взаимоотношениях двух властей было включено в так называемую Кормчую книгу26, а церковное понимание взаимоотношений народа и христианской власти вошло отдельной главой в «Домострой»27. Оба эти сочинения на протяжении многих веков являлись основным руководством в повседневной жизни для церковнослужителей, великих князей, представителей знати, купечества и простого народа.
И хотя эта грандиозная концепция о христианском правителе и Святой Руси никогда не была осуществлена в полной мере, оставаясь скорее великой мечтой, недостижимым идеалом, Русь верила в этот идеал. Он же лег в основу идеи «Москва — Третий Рим», когда после падения Константинополя в 1453 г. Московская Русь осознала себя центром православного мира28.
Особенное развитие идея об особом благочестии государя получила в эпоху Ивана Грозного (XVI в.)29, который пытался повторить в своем «сценарии власти» византийских монархов.
Несмотря на то что цари далеко не были идеальны, идеологическое обоснование древнерусской модели царской власти всегда оставалось неизменным. Это определяло прежде всего доверие подданных к своему монарху.
Богословы, в свою очередь, могли обличать порочность и греховную сущность конкретного правителя, но никогда не призывали свою паству к открытому неповиновению властям, ибо, по словам Иоанна Златоуста (IV в.), «безначалие везде есть зло и причина беспорядка»30.
Таким образом, официальные представители Церкви всегда стояли за стабильность государства и старались во всем поддерживать власть31.
9 Миланский эдикт (датируется 313 г.) — письмо императоров Константина и Лициния, провозгласившее религиозную терпимость на территории Римской империи. Этот документ гарантировал свободу вероисповедания христиан.
10 Эсхатология — учение о конечной цели человеческой судьбы, космоса, отдельного государства и о всеобщем апокалипсисе.
11 В связи с этим можно вспомнить Константина Великого (IV в.), а также крестителя Руси князя Владимира и многих других.
12 См.: Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. — М.: Labarum, 1998. — С. 260. Далее — Евсевий Памфил.
13Евсевий Памфил. С. 260.
14 См.: Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М.: Наука, 1997. — С. 223–224. Далее — Аверинцев С.
15Аверинцев С.С. 121.
16Там же. С. 218.
17 Василевс (царь) — титул византийского императора.
18 См.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. — М., 2003; Покровский И.А. История римского права. — М., 2004 и др.
19 Цит. по: Костогрызова Л.Ю. Симфония властей в Византии: опыт взаимодействия государства и Церкви // Электронный ресурс: http://www. bogoslov.ru/text/1609881.html (дата обращения: 30.05.2013).
20 См.: Дворкин А. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. — Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2009. — С. 19–20. Далее — Дворкин А.
21 «Слово о законе и благодати» (1037–1050) — выдающийся памятник древнерусской литературы, с которого началась на Руси богословская мысль. См.: Молдован А.М. Слово о законе и благодати Иллариона. — Киев, 1984.
22 См.: Розов Н.Н. Синодальный список сочинений митрополита Иллариона — русского писателя XI в. — Praha, Slavia, 1963. roc. XXXII, ses. 2 // Электронный ресурс: http://philologos.narod.ru/sophia/slovoz.htm (дата обращения: 25.05.2013).
23Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. В 2 т.Т. I.Ч. 1. — М.: Языки русской культуры, 2000. — С.2. Далее — Забелин И.Е.
24 Теоцентризм — философская концепция, согласно которой в основе мироздания помещен единый Бог как источник жизни, творец всего сущего на земле: всех видимых и невидимых его форм.
25Забелин И.Е. Т.1. Ч.1. С.4.
26 Кормчая книга (XI в.) — свод церковных установлений, регламентировавших общественную, семейную и религиозную жизнь народа. Она постепенно заменяла действовавшие на Руси языческие обычаи. С XIII в. этот сборник был предложен митрополитом Кириллом в качестве основного руководства к управлению Церковью. Позже Кормчая была подвергнута различным дополнениям. См.: Белякова Е.В. Источники печатной Кормчей // Вестник церковной истории. № 3 (11). — М., 2008. — С. 99–115.
27 «Домострой» — книга, составленная на протяжении нескольких веков коллективом авторов. В ней содержались правила, советы и наставления на все случаи жизни: социальной, профессиональной, общественной, семейной, частной и религиозной. В книге прослеживались сочетания народных языческих верований с глубоким христианским миропониманием. Основное распространение «Домострой» получил в Великом Новгороде (XVI в.) в среде образованных бояр, купечества и духовенства. Духовник и сподвижник царя Ивана IV Грозного протопоп Сильвестр переписал «Домострой» в качестве назидания молодому царю. Это был, по сути, первый свод нравственных правил и норм поведения, созданный специально для монарха. В этой редакции «Домострой» наиболее известен в наши дни. В «Домострое» есть глава «Как чтить царя». В ней сказано: «Бойся царя и служи ему верно, всегда о нем Бога моли […]. Если земному царю с правдой служишь и боишься его, научишься и небесного царя страшиться».
28 См.: Тимошина Е.В. Теория «Третьего Рима» в сочинениях «Филофеева цикла» // Правоведение. — СПб., 2005. — № 4. — С. 181–208.
29 См.: Дворкин А.
30Иоанн Златоуст. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 1–12. — СПб.: Санкт-Петербургская духовная академия, 1895–1906. Т.9. — С. 777.
31 Исключения могут составлять лишь отдельные иерархи Церкви, такие как митрополит Московский и всея Руси Филипп Колычев (1507–1569), открыто обличивший царя Ивана Грозного за опричнину и злодейские убийства народа, за что был лишен сана и в 1569 г. задушен Малютой Скуратовым. Во времена правления Екатерины II митрополит Ростовский и Ярославский Арсений Мациевич (1697–1772), единственный из всех архиереев, написал письмо императрице с критикой секуляризации церковных владений, за что в 1763 г. был лишен митрополичьего сана и сослан в монастырь, где и умер.
Глава 2. От боярской Московской Руси до Российской империи
В отечественных исторических исследованиях вопрос обучения христианской вере освещен достаточно полно. Известно, что оно началось практически одновременно с принятием христианства. Поскольку для новой паствы прежде всего необходимы были наставники духовные (священно- и церковнослужители) и для их высокого назначения «грамотность представляла одно из необходимейших и важнейших условий», князь Владимир первую свою заботу устремил на приготовление, образование новых служителей и наставников веры.
Традиционно принято считать, что греческое духовенство, крестившее Русь, принесло с собой и сложившуюся организацию религиозного обучения. Первыми учителями были священники — болгарские и греческие, знавшие русский язык32. Состав нашей древнейшей грамотности ограничивался тогда преимущественно книгами церковными: Священным Писанием, поучениями и творениями Святых Отцов и т.п. «Этот церковнослужебный характер древнейшей нашей грамотности отразился яснее всего в самом составе первоначального обучения, именно в обучении чтению, где за букварем следовал Часослов и потом Псалтирь — венец древнего словесного учения и полного курса первоначальной науки»33.
Поскольку образование народа всех сословий вызвано было исключительно необходимостью в церковнослужителях, а для наставников веры прежде всего требовалось знание вечерни, заутрени, часов, Псалтыря, Апостола, ектений, то этот «состав наук» стал постепенно переходить от духовенства к простому народу, в круг светского образования. Впоследствии эта программа «домашнего курса обучения» не вобрала в себя новых предметов вплоть до XIX в.
В просвещении, или в «обучении книжном», были заинтересованы и духовенство, и государственная власть, так как заодно с христианским вероучением народу внушалось и божественное ее (власти) происхождение. Первоначально были организованы классы при монастырях, в прихрамовых помещениях церквей и соборов либо в богатых домах, куда приглашали священника для занятий с детьми княжеской или боярской семьи34. Причем первоначально принципиальной разницы между обучением отпрысков из простых семей и правящего класса не было.
К XVI — началу XVII в. были уже систематически организованные школы при православных братствах, где преподавались азы богословия. Особенно хорошим религиозным образованием отличались западные земли Руси: Украина, Литва, Белоруссия, где уроки шли на славянских языках, а также на латыни и по-польски. Известно, что в 1632 г. митрополит Петр Могила преобразовал одну из киевских братских школ в коллегиум, который вскоре стал единственным на тот момент в Восточной Европе учебным заведением, признанным академией. Впоследствии Киево-Могилянская духовная академия, в которой с 1689 г. был введен курс православного богословия, стала образцом для последующих духовных школ и семинарий35.
Однако период конца XVI — начала XVII в. привел, как известно, к перелому в политической системе Московской Руси. Эпоха, названная позже Смутным временем, отличалась многими бедами, обрушившимися на страну: сначала отсутствие наследников династии Рюриковичей, неурожай и голод, потом последовавшее за ними окончательное падение прежней династии, затем захват трона самозванцами, иностранная интервенция, полный экономический и политический крах. Все это привело не только к неустойчивому положению России на международной арене, но и к падению образа государя в глазах его подданных. В частности, в обществе изменилось отношение к самой социальной роли привилегированного класса, на который теперь стали возлагать ответственность за все неполадки в государстве36.
Смутное время завершилось воцарением в 1613 г. династии Романовых. В России сложилась уникальная в мировой истории ситуация, когда во главе Православной Церкви и православной державы встали отец и сын — патриарх Филарет и царь Михаил, и таким образом между духовной и государственной властью установились поистине родственные отношения. Но все же устойчивость новой династии в глазах подданных долгое время подвергалась сомнениям: будет ли у государя наследник, не появятся ли новые претенденты на трон? Все эти вопросы еще десятилетия беспокоили окружение царя Михаила Романова.
Именно в этот период, в начале 1620-х гг., начали тиражироваться печатные так называемые «Покаянные чины», предназначенные специально для исповедей патриархов и царей. Инициатива таких исповедей принадлежала патриарху Филарету (Романову), отцу нового монарха.
Неизвестный художник. Портрет патриарха Филарета Никитича Романова Источник: Государственный Эрмитаж
В общих чертах содержание этих исповедей не отличалось от таких же текстов, предназначенных для простых мирян, но некоторые различия все же имелись. В частности, в «Покаянных вопросах» подробно рассматривались не только нравственный облик властителя, его отношение к законам, поведение и высказывания, но и обстоятельства его прихода к власти. Это свидетельствовало о неустойчивом положении Романовых и желании при возможном повороте событий заранее определить критерии нравственной оценки будущего государя.
Покаянные тексты для царей и патриархов не могли бы возникнуть в XV–XVI вв. В средневековой Руси персона властителя представала в глазах народа всегда и везде непогрешимой. Но с воцарением новой династии появилась необходимость идеологически оправдать ее возникновение и поставить государя выше мерок, применяемых к обычным людям, чтобы сделать его не только верховным вельможей, но и истинным самодержцем37. Таким образом, покаянные тексты служили как бы подтверждением истинного христианского лица государевой персоны.
Цари новой династии до определенного времени в жизни и в домашнем быту все же оставались со своими подданными первыми среди равных, «вполне народным типом хозяина, главы дома. […] Одни и те же понятия и даже уровень образования, одни привычки, вкусы, обычаи, домашние порядки, предания и верования, одни нравы»38.
Что касается царских детей, то разница в их воспитании и образовании по сравнению с простым народом была лишь имущественная. К цесаревичам с пятилетнего возраста для воспитания назначался «дядька» из числа бояр и образованный приказной дьяк или подьячий для обучения чтению, счету и письму. При этом не было нужды в специальном священнике, обучающем Закону Божию, ибо религия впитывалась с детства в своей собственной семье с молоком матери. Едва познакомившись с азбукой, маленькие цесаревичи, как и дети простых подданных, совершенствовали грамоту по Часослову, Апостолу и Псалтырю; церковное пение и обряды они перенимали в храме в практике церковных богослужений. Там же по иконам и настенным росписям они знакомились со смыслом православной иконографии, а во время проповедей — с азами догматического и нравственного богословия, с житиями святых, с евангельскими и ветхозаветными мифами и преданиями.
Московская Русь до XVII в. жила относительно замкнуто, и обо всем, что происходило за ее границами, у народа было весьма смутное представление. Религия признавалась только одна — христианская (она же православная); представители иных исповеданий традиционно считались «басурманами» и «еретиками».
Неизвестный художник. Портрет царя Михаила Федоровича РомановаИсточник: Государственный Эрмитаж
Царский наследник также выбирал себе невесту только из числа своих православных подданных39, а царские дочери, не имея возможности найти себе равнородного жениха православного исповедания, чаще всего вынуждены были проводить свою юность в закрытых теремах, а в конце жизни принимать монашество. Прочим подданным государя на исповеди духовники также могли задать вопрос: «Не блудил ли ты с иноверкой или не был ли женат на ней?»40, потому что даже общение или совместная трапеза с представителями иных конфессий считались грехом.
Однако уже с середины XVII в. прежняя закрытость государства постепенно стала уходить в прошлое; между Россией и странами Западной Европы начали устанавливаться тесные дипломатические связи. Теперь уже на представителей иных конфессий в официальных кругах государства стали смотреть дружелюбней. Более того, в 1623 г. по просьбе патриарха Филарета велись переговоры с датским и шведским королевскими домами о возможных невестах для цесаревича Михаила Романова.
Петровские преобразования, усилившие контакты с западным миром, более развитым в экономическом, военном и культурном отношении и далеко опередившим Россию в гражданском просвещении, в дипломатии, в образе воспитания и обучения и «в самом светском обхождении»41, стали диктовать острую нужду в людях с широким кругозором, специальными знаниями и владением иностранными языками.
Неизвестный художник. Портрет царицы Натальи КирилловныИсточник: Государственный Эрмитаж
В 1702 г. государем был подписан манифест «О ввозе иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания». Для царя, безразличного к тому, «крещен ли человек или обрезан», главными критериями являлись профессионализм и порядочность. На постоянное жительство стали прибывать иностранные специалисты различных профессий: горные и военные инженеры, врачи, ученые. Среди представителей высшего сословия вошло в моду и получило широкое развитие освоение западной культуры и наук. Иностранцев начинают привлекать также к обучению знати и государевых детей.
В начале XVIII в. в России произошла также религиозная реформа. Суть ее, изложенная в части первой «Духовного регламента»42, заключалась в том, что христианский государь провозглашался блюстителем «правоверия и всякой в Церкви святой благочиния» и, по сути, главой светской и религиозной власти в стране.
Теперь, согласно законам Российской империи, главой Православно-Кафолической Церкви вместо прежнего патриарха стал император, что позже нашло отражение в законодательстве. Потенциальный наследник престола должен был быть только православным и воспитанным православной матерью; в противном случае он не подходил бы для священного чина коронования и миропомазания.





























