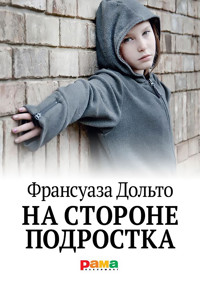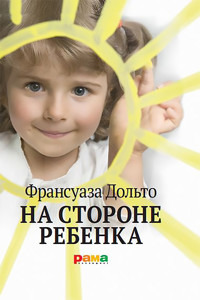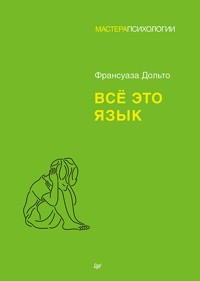
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Питер
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
В этой книге, составленной по материалам одной из психоаналитических конференций с участием Дольто, описываются все нюансы языка, которым взрослые общаются с детьми, а дети с взрослыми. Что бы ребенок ни делал, по сути, это его слова, которые через его действия нужно услышать, причем буквально. Таким образом можно узнать о чувствах, которые ребенок не может сформулировать и вербализировать, чувствах, которые возникают у него, когда он сталкивается с ложью, недоговариванием и избегающим молчанием взрослых. Дольто описывает и интерпретирует язык детей, чтобы родители умели распознавать страдание ребенка и находить нужные слова, способные избавить его от "ненужной боли".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Переводчики Л. Денисова, Л. Терешёнок
Франсуаза Дольто
Всё это язык. — СПб.: Питер, 2023.
ISBN 978-5-4461-2263-9
© ООО Издательство "Питер", 2023
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Предисловие к русскому изданию «Всё это язык». Эффект Дольто
Друзья, вы держите в руках замечательную книгу одного из выдающихся французских психоаналитиков, педиатра, новатора в области детского психоанализа и большого гуманиста Франсуазы Дольто.
Говорить о Дольто и ее многогранном творчестве можно бесконечно, она обладает невероятной притягательностью, своим словом напрямую попадая в сердца взрослых и детей. Имя Дольто настолько широко известно во Франции, что вы не найдете ни одного книжного магазина или даже киоска с периодикой, где на полках ни стояли бы ее маленькие аккуратные книги в формате pocketbook — книги, которые можно носить в кармане, обычно в мягкой обложке для удобства чтения. Именем Дольто во Франции названы детские сады и школы, центры и учреждения разного профиля, специализирующиеся на приеме и социализации детей. Вокруг ее научного наследия создаются конференции и конгрессы, организуются группы по его исследованию, ее открытия продолжают жить не только в узкопрофессиональных кругах, но и на радио, телевидении, в семьях, передавая из поколения в поколение мастерство родительства, уважительного отношения к ребенку, мастерство настоящей любви.
История издания книг Дольто для русскоговорящей аудитории довольно сложна и прерывиста. В силу ряда причин долгое время ее книги не переводились на русский язык, отдельные переводы делались разными группами специалистов — детских психоаналитиков, педагогов — для совместного изучения. Можно сказать, что научное наследие Дольто до сих пор не получило заслуженной оценки среди работ детских психологов, врачей, деятелей сферы образования, опубликованных в нашем сообществе; ее книги не заняли своего достойного места на книжных полках наших родителей… А следовательно, ее уникальный подход и находки все еще остаются нам неизвестными.
Мы — авторы Содружества «Другой Путь» и наши профессиональные попутчики — долгое время обращались к этим текстам самостоятельно, переводили отрывки из книг и статьи Франсуазы Дольто, находя в них ответы на волнующие нас вопросы, затрагивающие психотерапевтическую работу с детьми и их родителями. Не являясь профессиональными переводчиками, мы тем не менее углублялись в ее слова, по крупицам ухватывая ту «благую весть психоанализа», которую Дольто многочисленными способами пыталась донести до аудитории — до читателей ее книг, слушателей ее многочисленных лекций и конференций, ее радио- и телепередач. Для многих из нашего Содружества это стало не только настоящим профессиональным, но и личным путем.
Это большая честь — говорить о трудах и работе Франсуазы Дольто и большая возможность — поделиться с вами нашими впечатлениями, размышлениями и опытом нашего с ней знакомства, за что мы очень благодарны издательству «Питер». Кроме того, это большая удача и радость для нас — принять участие в издании книги «Всё это язык», опубликованной впервые в 1987 году и представляющей собой транскрибированные, переработанные материалы одной из психоаналитических конференций с участием Дольто в 1984 году. Вы сможете увидеть, читая эту книгу, что еще в середине прошлого столетия она поднимала вопросы, до сих пор остающиеся важными и актуальными для всех, кто растит детей, кто их обучает, работает с ними как психотерапевт или психоаналитик.
***
Дольто была филигранным клиницистом и глубоко мыслящим теоретиком детского психоанализа. Кроме того, она была необычайно откровенным и прямым человеком, не только уверенно рисковавшим в области клинических и теоретических открытий, но и рискнувшим выйти за пределы своего кабинета, чтобы популяризировать психоанализ, рискнувшим укоренить идеи психоанализа в общечеловеческой культуре для нашего общего блага. Именно ей удалось дать новое рождение психоаналитическому знанию, проложив его путь в медицину, педагогику, в школу.
Сохраняя приверженность сути классического психоанализа, но переосмыслив его ключевые понятия и концепции, Франсуаза создает собственную теорию становления человека, теорию бессознательного образа тела. Ключевую роль в этом сложном, неоднозначном, но всегда волнующем процессе она отводит обмену речи между ребенком и окружающими его взрослыми — словам, сказанным ребенку и в его присутствии. Уже здесь мы сталкиваемся с гуманистическими принципами Дольто, утверждающей, что зов речи пробуждает субъекта к его социальному будущему, раскрывает возможности ребенка для его участия в человеческой группе, позволяет ему с достоинством присоединиться ко всему общечеловеческому.
Символическая функция является основополагающей и специфической для человеческих существ, именно она позволяет установиться и раскрыться фундаментальной межчеловеческой связи, обеспечивающей и отношения первичной зависимости ребенка, и его дальнейшее развитие. Дольто писала: «Для меня нет ничего важнее общения» (Автопортрет психоаналитика, 1989), общения, реализуемого именно в символической функции, благодаря которой люди усваивают код своего отношения к другим, научаются любить так, как их любит другой.
Будучи крайне восприимчивой к каждому детскому страданию, Дольто четко улавливала то, что юные субъекты стремились ей сообщить. Не только словом, не только рисунком, игрой, но и телом, мимикой, движением, даже поворотом головы (всё есть язык!), когда речь шла о младенце. Именно ей принадлежит идея, что психоанализ возможен и полезен с самыми маленькими детьми, с самого их рождения, — новорожденный уже является языковым существом, субъектом речи, а значит, субъектом своего бессознательного желания. Если есть жизнь — есть и субъект, автономный источник желания. Пока еще не личность, не самость, но бессознательный, предсуществующий и трансцендентный субъект.
Гипотезы Франсуазы Дольто утверждают особую этику детского психоанализа, подчеркивающую уважительное отношение к самым маленьким детям, важность их признания, необходимость изменения статуса ребенка — от пассивного, нуждающегося в обучении и воспитании, в контроле к ребенку-субъекту, обладающему своими собственными желаниями и естественным, природным образом способному себя контролировать. Ее «дело детей» — это просвещение родителей и всех взрослых, контактирующих с детьми, в отношении внутреннего мира юных субъектов, их взросления, их потребностей и чувств, в отношении понимания их страданий. Услышав страдание ребенка и сказав верные слова, мы можем предотвратить «ненужную» боль — в этом заложены большие возможности для профилактики будущих психических нарушений. Ребенок не может выразить свое страдание словами, он говорит с помощью тела, и аналитик может интерпретировать эти послания, связывая биологические процессы с психологическими, расшифровывая бессознательные причины того, что он ощущает, причины его симптомов. Если младенец уже предрасположен к языковому обмену, мы можем с самого начала слышать его и вступать с ним в диалог. Речь психоаналитика дает ребенку символы, позволяющие ему психически укорениться в реальности.
Возможно, именно благодаря ее глубочайшему пониманию человеческой природы и большой любви ко всем человеческим существам независимо от их статуса и возраста, ее пронзительному гуманизму мы получаем доступ к терапевтической и человеческой проницательности и совершенно удивительной способности словом точно попадать в сердца людей.
***
Книга «Всё это язык» совершенно уникальна. Это не просто текст, не просто «написанное», но «сказанное», поскольку она представляет собой запись и переработанные в буквы живые слова Франсуазы Дольто, сказанные пришедшим с нею на встречу людям. Живое общение сегодня — большая ценность, в наш век цифровых технологий и особенно активно преуспевающего онлайн-общения оно становится исключением, чем-то особенно значимым и редким.
Живое общение — не просто случайная встреча между людьми, но спонтанность, открытость и глубина взаимодействия. Так было всегда. Также каждая личная встреча Франсуазы Дольто с аудиторией несла огромный потенциал, предлагая возможность услышать ее искренний отклик на страдание другого, вникнуть в сущность задаваемого им вопроса, — она смело устанавливала контакт с людьми и выражала себя через сказанное, создавая новые, порой совершенно неожиданные смыслы. Невозможно настолько быть включенным в другого без должной чувствительности, наблюдательности, без человеческого тепла и настоящей любви к жизни и людям.
«Всё это язык» в полной степени иллюстрирует ее включенность и показывает ее как настоящего автора, требующего задействовать это общечеловеческое, эту способность к межчеловеческой связи каждого, кто прикасается к книге. Работая над книгой, мы столкнулись с кардинальной невозможностью делать это в одиночку. Ни перевести книгу, ни сделать ее научную или стилистическую редакцию — на каждом этапе книга требовала участия нескольких людей, совместного творчества, внимательного слушания друг друга. Совместное ее прочтение создало особое поле, объединившее нас, позволившее состояться истинной коммуникации, интенсивному межчеловеческому обмену.
Это удивительный талант — обращаться к самому центру общечеловеческого, соединять людей, обнаруживать и задействовать в них самое гуманное, самое человеческое. Мы желаем и вам совершить эти прекрасные открытия, позволить Франсуазе Дольто произвести необыкновенный эффект и прикоснуться к вашему сердцу.
Дина Дуплинская, Оксана Павлюк, психоаналитики, авторы Международного психоаналитического содружества «Другой Путь»
Издание, пересмотренное и составленное Клодом Болди-Мулинье, Жераром Гийеро и Элизабет Куки
Предисловие
Перед вами переработанное и исправленное издание книги, впервые увидевшей свет под тем же названием (в издательстве Vertige/Carrère) в 1987 году. Основой для нее послужили материалы одного дня конференции и дискуссии с участием Франсуазы Дольто в 1984 году в Гренобле. Точное название конференции звучало так: «Говорение и делание. Всё есть язык. Важность слов, сказанных детям и в их присутствии».
Предыдущие издания, мягко говоря, требовали пересмотра. Чтобы пояснить это, достаточно упомянуть о том, что мы обнаружили здесь высказывания, приписываемые Франсуазе Дольто, которые на самом деле исходили от ее аудитории, и наоборот. Очевидно, в прежних изданиях внимания редакторской работе уделялось мало.
Однако работа над этим текстом стала для нас непростой задачей. Насколько далеко в принципе можно (или нельзя) зайти в исправлении текста, который автор позволил опубликовать в исходном виде, несмотря на некоторую корявость и многочисленные неточности?
Как это и должно быть, в соответствии с подходом, ставшим традиционным для сборников данной серии, мы выбрали стратегию минимальных изменений — стараясь как можно меньше касаться исходного текста, мы просто ограничились теми правками, которые сделали его пригодным для чтения. Дополнительная сложность состояла в том, что устный текст выступлений нужно было передать в письменном виде. Мы решили максимально сохранить спонтанность и энтузиазм, столь характерные для стиля Франсуазы Дольто. В книге есть фрагменты, соответствующие, например, ассоциативному пути мысли, продвигающейся скачками; они оставлены в прежнем виде. Точно так же там, где логика повествования не была однозначной, мы отказались от редактуры, которая была бы слишком интерпретирующей, и предпочли оставить текст в его очевидной двусмысленности.
Важно отметить, что мы обнаруживаем здесь проявление сравнительно недооцененной стороны — многочисленных способов работы и передачи знания Франсуазы Дольто. А именно то, что заставляло ее неустанно скитаться там, где она могла распространять послание — по ее мнению, благую весть психоанализа, который мог бы прежде всего способствовать служению «делу детей».
В действительности начиная с семидесятых годов Дольто никогда не отказывала, когда ее просили рассказать о ее опыте, размышлениях, оказать поддержку по тем или иным вопросам, которые задавали ей практикующие детские психологи, учителя, воспитатели. Помимо поездок в разные страны (Канада, государства Латинской Америки, Польша, Греция…), Франсуаза Дольто выступала в яслях, школах, психообразовательных учреждениях по всей Франции, отвечая на вопросы широкой аудитории, состоящей из психологов, формирующихся психоаналитиков, социальных работников и т.д. Биографам Франсуазы Дольто еще предстоит воссоздать пройденный ею путь — путь истинного воина бессознательного, в котором она видела средство освобождения социального субъекта.
Франсуаза Дольто была не единственной, кто считал, что психоанализ предназначен не только для специалистов, что он должен быть широко открыт и доступен всем, кому может принести пользу своим посланием человечности. Но у нее также был уникальный талант, который позволял ей быть полноценным учителем как в научных беседах, так и в разговоре со всеми желающими. Свидетельства этому вы найдете в данной книге, где она отвечает на вопросы неподготовленных слушателей.
Самое удивительное — то, что для нее не существовало никаких сложностей в переходе от строго технических аспектов ее психоаналитической, клинической и теоретической работы к тому, что она могла прямо или косвенно передать любой аудитории, в том числе выходящей за рамки гарема психоанализа, когда на карту было поставлено уважительное отношение к юному субъекту. Отсюда совершенно уникальное качество настоящей книги, где мы обнаруживаем высказывания, безусловно вдохновленные аналитическим опытом и его теоретизированием, но тем не менее транслируемые в педагогических, воспитательных или психосоциальных целях.
Однако не стоит поддаваться искушению видеть в этой книге полезные советы или даже рецепты на любой случай. Она скорее является напоминанием о том, что теория имеет смысл, только когда она связана с фактами, в данном случае психолого-образовательными и социальными, — ведь только так можно доказать ее актуальность и эффективность, подтвердить ее терапевтическую значимость. Франсуаза Дольто вовсе не поучает нас с высоты своего авторитета и опыта. Ее манера включаться в игру с вопросами и ответами показывает, насколько она присутствует в слушании другого, до такой степени, что это влияет на саму модальность содержания ее ответа. Вопреки распространенному заблуждению ее тезисы невозможно рассматривать как догматические утверждения, сделанные раз и навсегда, — скорее это утверждения, взятые в контексте отношений с собеседником, в присутствии того, что является также бессознательным другого, — то, чего он не говорит, когда говорит, и с чем Франсуаза Дольто согласовывает свои ответы, позволяя слушателю следовать за своей мыслью. Эта книга пропитана тем, что является, таким образом, ее чувством другого (в переносе).
Поэтому было бы большой ошибкой считать, что здесь мы имеем дело с исключительно прагматичными замечаниями, отвечающими только целям образовательной деятельности (да еще и предполагать некое обеднение мысли). Без сомнения, здесь есть место для тех или иных замечаний, рекомендаций, советов, причем на разных уровнях, где формулируются разные вопросы. Ни в коем случае не следует сокращать или отбрасывать постоянно всплывающие отсылки к психоанализу; это означает, что именно благодаря им высказывания Франсуазы Дольто, какими бы близкими к повседневной жизни они ни казались, не перестают отсылать к этому способу практики и мышления, в котором они обретают смысл. Просто поразительно, насколько, отвечая в течение всего дня на разрозненные вопросы, Франсуаза Дольто могла раскрыть суть того, что она считает основой психоанализа, подчеркивая, в частности, символизацию, играющую значительную роль в становлении и расцвете субъектности в человеке; функцию отца как третьего в отношениях с матерью; то, что может произойти в отсутствие отца, — например, в случае психотической девиации; уважительное отношение к желанию ребенка с самого раннего возраста и т.д.
Амбициозность научно-теоретической мысли, которая здесь публично заявляет о себе, выражена в окончательном названии книги: «Всё это язык». За простотой этой формулы скрывается сложное высказывание, значение которого мы рискуем потерять, если будем рассматривать формулировку поверхностно. Без сомнения, прежде всего она приводит нас к рекомендации, слишком часто упрощаемой и потому искажаемой, — «говорить с ребенком». Франсуаза Дольто решительно настаивает на необходимости говорить с ребенком при любых (даже драматических) обстоятельствах, говорить ему прямо, либо в его присутствии. Но ее «всё есть язык» уходит гораздо дальше, поскольку — важно заметить — язык здесь, на другом фундаментальном уровне, предполагает понимание того, как с помощью своего тела ребенок позволяет выразиться тому, что иногда он не может обозначить иначе (и не сводить это все к чехарде психосоматики). Утверждение о том, что всё есть язык, еще раз подтверждает концептуальную близость подхода Дольто к Лакану, отмечавшему важность и главенство речи, вплоть до ее телесных проявлений, когда именно тело может оказаться свидетелем символизации отношений, действующей в субъекте, каким бы маленьким он ни был. Именно телесно, плотски все получает свое значение для человека, все приобретает «языковой смысл». Именно так тело субъективируется — становится телом субъекта, который говорит «я».
Как и Франсуаза Дольто, каждый может найти в этом внутреннем союзе тела и языка тот способ, посредством которого слово становится плотью, а плоть становится для субъекта несущей слово.
Жерар Гийеро*
* Жерар Гийеро — психоаналитик, член Парижской школы фрейдизма. Учился у Франсуазы Дольто и участвовал в создании Зеленого дома. Детский психотерапевт в больнице Труссо в Париже. Помимо различных статей и лекций, опубликовал работу «Le Corps psychique» (Universitaires, 1989), посвященную образу тела (совместно с Франсуазой Дольто), которая вскоре будет переиздана.
От автора
Эта книга представляет собой «сочинение» по мотивам конференции, проводившейся в Гренобле 13 октября 1984 года для психологов, врачей и социальных работников1.
Мне хотелось, чтобы те, кто занимается таким важным делом, как воспитание, обучение и уход за детьми и подростками, сталкивающимися с физическими, психологическими, эмоциональными, семейными или социальными трудностями, поняли важность слов, сказанных или не сказанных о событиях, которые в настоящее время влияют или повлияли на жизнь ребенка, часто без его ведома, а иногда и без ведома окружающих.
Психоаналитическую подготовку прошли лишь немногие из слушателей, включая саму мадам Комба, которая организовала эту встречу. Но все они хотели понять, каким образом психоанализ может пролить свет на их ежедневные вопросы в ходе работы с детьми, за которых они в той или иной мере несли ответственность.
Моей целью было пробудить в аудитории, состоявшей из взрослых, живущих в контакте с детьми, осознание того, что человек — это прежде всего существо языка. Этот язык выражает его неистребимое желание встретить другого, похожего или отличного от него, и наладить общение с ним.
Особо отмечу, что желание это скорее бессознательное, нежели сознательное. Разговорный язык — одно из проявлений этого желания, и он довольно часто (намеренно или нет) искажает истинный смысл сообщения. Эффекты этой игры в прятки всегда динамичны: для человека, находящегося в процессе развития, — для ребенка — они могут стать как живительными, так и пагубными.
Именно это мне хотелось прояснить, опираясь на опыт многолетней психоаналитической практики с детьми, подростками, родителями, опекунами, прошедшими болезненные испытания взаимным непониманием, порой преждевременным и потому более травматичным для будущего.
Ниже я привожу переработанную расшифровку трех- или четырехчасового обсуждения. Слушатели задавали много вопросов, касающихся их повседневной образовательной или социальной практики. Я попыталась пролить свет на обозначенные проблемы с точки зрения динамики самого субъекта, ребенка, через экзистенциальную проблему объекта, которая, по-видимому, всегда занимает ведущее место среди забот педагогов и родителей.
Мне кажется, что такой подход в большей степени, чем теоретические труды, поможет просветить тех, кто занимается социальной работой с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Я надеюсь таким образом помочь людям понять роль «говорения правды» — той правды, которую эти взрослые передают в общении детям, не только бессознательно желающим ее, но и нуждающимся в ней и имеющим на нее право. Даже если они, выражая по просьбе взрослых свои мысли словами, сознательно предпочитают обманчивое молчание, порождающее тревогу, правде, нередко способной причинить боль, — эта правда, если она произнесена вслух и высказана обеими сторонами, позволяет субъекту выстраивать и гуманизировать себя.
Ф. Дольто, декабрь 1986 г.
1Полное название мероприятия, организованного Центром творчества, исследований и культуры в Гренобле, было: «Говорение и делание. Всё это язык. Важность слов, сказанных детям и в их присутствии». Конспект одного из дней этого мероприятия был позже опубликован. Именно этот текст стал основой для книги «Всё есть язык». Она была подготовлена к публикации в 1987 году с некоторыми изменениями и дополнениями к оригинальной версии. Мы предположили, что эти изменения могли быть внесены самой Франсуазой Дольто, и решили оставить их как есть, в том числе там, где первоначальный текст мог показаться более гладким. (Здесь и далее — примечание составителей книги, если не указано иное.)
Выступление Ф. Дольто
Г-жа КОМБА: Госпожа Дольто, я рада приветствовать вас и очень благодарна вам за то, что сегодня вы вместе с нами. Я счастлива видеть, сколь многим людям интересна тема, которую мы обсуждаем сегодня в Центре творчества, исследований и культуры. Эта встреча символизирует важный этап в работе, которую мы ведем с 1972 года в рамках программы «Исследования и детство».
Я передаю слово Франсуазе Дольто. Она будет выступать в течение часа, а затем, после перерыва, мы предложим высказаться присутствующим в свободном формате.
Франсуаза Дольто: Замечательно, что вас собралось так много и что среди вас немало молодых людей. Мне всегда приятно видеть, как молодые люди проявляют интерес к исследованиям, к подрастающему поколению, к детям. И поскольку это имеет прямое отношение к теме нашего разговора, я очень рада видеть людей, которые сами еще не стали родителями. Я уверена, что, прежде чем подойти к этому ответственному шагу — стать родителями, нужно сначала задуматься о проблемах собственного ушедшего детства; быть готовыми принять других не как свои копии, но как возрождение в другом мире для совершенно другой жизни — жизни наших детей.
Дети, рожденные сегодня, должны будут взять на себя... мы даже не знаем, что именно! Образованию в наше время приходится решать одну из важнейших задач — готовить детей к жизни, о которой мы ничего не знаем, которая постоянно меняется. Так происходит с начала века (говорю это вам как очень старый человек с большим жизненным опытом).
Мне пришлось столкнуться с войной в 1914 году, еще ребенком, пришлось наблюдать, как тотально изменилась жизнь семей во всех социальных слоях. Военные и первые послевоенные годы были поистине революционными, для многих семей этот опыт был очень травматичным. На меня это произвело большое впечатление, это был важный урок. В общественной жизни и в языке в этот период произошли изменения, которые заставляли меня задуматься о многом: я была свидетелем различных событий и задавала себе вопросы.
Затем была Вторая мировая война. Многие из вас не знают, что во Франции (я говорю только о Франции, поскольку не знаю, было ли такое в других странах) тогда развалилось множество семей. На государственном уровне существовали двойные стандарты. Семьи оказались разделены, признавали они это или нет, и люди с подозрением относились друг к другу. Было много страданий, многих мужчин и женщин разлучили война, тюрьмы, лагеря смерти.
Во Франции мы не так сильно рисковали собственной жизнью, сколько смертью отношений, тем более что передавать весточки из одного конца Франции в другой можно было только с помощью лаконичных открыток, на которых умещалось примерно тридцать слов.
Разрыв семейных, супружеских, детско-родительских связей из-за разлуки — это было невиданно. Чтобы пояснить вам, в чем это выражалось, я приведу в качестве примера детей, матери которых узнали, что отец находится в плену. Какое-то время о нем не было никаких известий, знали только, что папа на войне, и вдруг оказалось, что его взяли в плен. Так вот, после этих новостей о пленных в детские психоневрологические консультации в Париже стали в большом количестве поступать мальчики в возрасте от пяти до одиннадцати лет, которые снова начали мочиться в постель. Это был психосоматический эффект стыда за папу. Дети видели, что мама счастлива от того, что он не убит, а взят в плен. Но для самих детей это было позором. Заключенный2 — это же плохо, это значит, что он совершил какую-то подлость. Ребенок не мог понять, чем военнопленный отличается от преступника.
На этом нужно было строить психотерапевтическую работу. Детям нужно было дать понять, что их герой, их папа — на войне. Фотографии папы в форме должны были заменить в их сознании того, кто покинул дом. Мама же казалась довольной, что его здесь нет. Конечно, на самом деле это была неправда: женщины просто радовались, что муж жив, хотя и находится в плену. Мать казалась ребенку сумасшедшей: ей нравилось, что отца посадили, она с радостью говорила: «О, вы знаете, он в плену!» Быть заключенным стало соблазнительным.
Результатом стали мелкие преступления детей — преступления по отношению к себе, а именно невладение собой, снижение уровня владения телом, приводящее к такому уровню аффективности, когда теряется контроль над сфинктером. Такая потеря контроля — это язык для выражения невладения собой у детей.
Все млекопитающие контролируют мочеиспускание и дефекацию. Такого явления, как недержание мочи и кала, у них не существует, за исключением неврологических нарушений. Но «писать в постель» и «какать в штанишки» могут только люди, которых подпитывают язык и священное чувство связи с родителями. Ребенок мог бы уподобиться прочим млекопитающим, быть столь же чистоплотным и контролировать себя, если бы мать не заботилась о нем, одновременно придавая его жизни ритм, угодный ей, то есть побуждая его писать и какать, когда она попросит его об этом. Коровы и быки не требуют от своих телят писать и какать по запросу. Чтобы доставить удовольствие своим матерям, дети, увы, учатся контролировать мочеиспускание и дефекацию раньше времени, то есть до наступления полной зрелости своей нервной системы.
Я могу сказать вам, что такой ребенок может стать шизофреником. Я знала одного ребенка, который никогда после рождения не пачкал подгузники. Никогда. Он был рожден, чтобы стать особенным, замечательным, — а стал шизофреником. Наши МПИ3 заполнены так называемыми отсталыми, или психотическими, детьми, которые на самом деле являются самыми чуткими, самыми очеловеченными существами. Это не по годам развитые дети по сравнению с другими — в плане аффективности и чувствительности к отношениям. Однако по причине или декодирования языка между ними и родителями (которые могут не понимать, что их ребенок уже достаточно умен), или из-за слов, которые они услышали слишком рано и которые обесценивают их сыновние отношения или их пол (например, вызывают отчаяние, оттого что они принадлежат к тому полу, какой стал очевиден при рождении), — они расстраиваются, поскольку не могут принести удовлетворение богу и богине их внутриутробной жизни: родителям, говорящим снаружи, чьи голоса они слышат начиная с четырехмесячного возраста in utero, — и это действительно то, что соблазняет их родиться в надежде вступить с ними в отношения.
Многие люди обнаружили это для себя лишь недавно. Что касается меня, я сделала это открытие очень давно. Можно сказать, что я была первопроходцем в данной области. Я рада видеть, что сейчас этот подход становится все более распространенным, а ведь когда-то в больницах обо мне говорили: «Она немного того!»4
Тем не менее они признали, что пострадавшие дети, замкнувшиеся в себе, возвращаются к жизни и общению после того, как слышат, что их признают умными, — несмотря на то что они все еще не могут говорить, было известно, что они могут слушать. Поэтому мы должны говорить с ними о том, от чего именно они страдают, и тогда эти отношения субъекта к субъекту могут быть восстановлены.
Тот язык, на котором ребенок отказывается следовать ритму, задаваемому родителями или только матерью, может оказаться спасительным для субъекта, но лишит его опыта, необходимого для построения его будущего эго, звучащего в субъекте.
Итак, в консультационные центры вдруг хлынул поток таких детей. Того, что с ними происходило, совершенно не понимали ни их матери, ни врачи общей практики, которые только и могли дать им направление на психоневрологическую консультацию, хотя их работа заключалась в том, чтобы поговорить с ребенком. Однако в то время врачи общей практики и педиатры не знали о влиянии психологии, об этической структуре, на которую опирался ребенок, о разрывах, травмах, означавших, что для того, чтобы выжить, он должен был вернуться в тот период своего прошлого, когда его отец еще не имел авторитета. Для того чтобы оставаться нормальным, он должен был быть мальчиком, не участвующим в генитальной жизни. Поэтому лечение касалось в основном нарушений функционирования органов малого таза. Действительно, симптомы мальчиков рисовали именно такую картину.
Следует также добавить, что спустя какое-то время мать переставала волноваться по поводу того, жив ли ее муж, особенно если получала письмо, где говорилось, что живется ему не так уж и плохо; я говорю прежде всего о шталагах, где люди проводили меньше времени, чем в офлагах, и где мужчин сразу нанимали для работы на фермах5. Она видела, что ее муж здоров физически и морально, и понимала, что у него могут возникнуть отношения с женщинами (нередко это было правдой); она начинала нервничать и ревновать к немкам.
Дети слышали, как мать разговаривает с соседкой о том, чем же таким в Германии занимается отец, что он кажется довольным жизнью. Многие семьи получали письма от молодых пленных, в которых говорилось: «Здесь меня учат, как выращивать то, как выращивать сё...»
Это правда, что в сельской местности мужчины были открыты нацистской политике, особенно вначале все эти хорошо организованные люди — это бросалось в глаза. Я говорю о том, как было вначале; после, когда все пришло в упадок, стало совсем по-другому.
Чтобы понять, как эта противоречивая информация влияла на соматику детей, нужно учесть следующее: любое действие или высказывание, касающееся людей, оказывающих воздействие на структуру личности ребенка, то есть его отца и мать, — вначале они представляются ему человеком о двух головах и лишь затем разделяются на мужчину и женщину, первые два образа в его жизни, — всё, что влияет на действия, высказывания, поведение этих людей, — структурирует личность ребенка. Это воздействие само по себе не хорошо и не плохо, оно реально, динамично и может быть или живительным, или пагубным для ребенка.
Расценивать результат такого воздействия как положительный или отрицательный можно в зависимости от того, как мы относимся к реакции ребенка. Если бы вместо того, чтобы ругать его за то, что он снова намочил постель, мы его похвалили, его недомогание прошло бы за 3–4 дня. Нужно было бы похвалить его за то, что он отреагировал на шокирующую новость, и вместе с тем дать ему понять, что быть военнопленным — это не унизительно и даже храбро; и что его отец не был каким-то негодяем, осужденным законом за совершенное преступление. Это было нелегко, особенно если вы и сами не очень-то верили в подобное «прославление» военнопленных.
Знаете, даже если, будучи психоаналитиками, мы не верим в то, что это храбро — пойти и убить соседа за то, что он одет в другую форму, — мы должны сказать ребенку: «Твой папа служил своей родине, а потом его схватили, потому что немцы были сильнее. Это не его вина, он очень храбрый!» — в общем, все, что можно сказать в оправдание того, что его отец не погиб в бою. Он с гордостью получил бы за отца медаль, если бы тот пал смертью храбрых. Случалось, что у некоторых сверстников таких ребят отцы погибали на фронте. Так они этим хвастались! «Твоего отца взяли в плен, а моего-то — убили, слышь!» Тот, чей отец погиб, был выдающимся человеком, а тот, чьего отца взяли в плен, — неудачником.
Неудачник и ведет себя так, как полагается неудачнику: он раскисает, запускает себя, «какает в штаны». Феномен панк-движения6, например, имеет те же корни: мы стремимся, чтобы нас заметили, потому что быть замеченным — это святое, а вот если оставаться просто сыном или дочерью своих родителей, то нам будет стыдно за себя — и мы надеваем личину чудика. Окружающие смотрят на юношеский протест и говорят: «Бедные дети!» А дети отстаивают то, что для них наиболее важно, будто говоря: «Посмотрите на меня! Пусть я сам лишь отдаленно смахиваю на человека, но вот пошлю я вас подальше — и сразу стану великим». Они не могут жить без надежды на это. Ну а панк в четырехлетнем возрасте выражает себя через пи-пи и ка-ка.