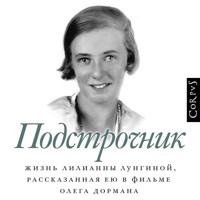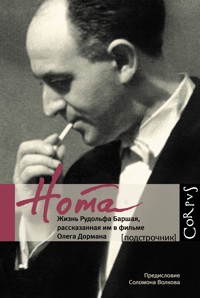
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corpus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Russisch
Дирижер Рудольф Баршай принадлежал к плеяде великих музыкантов ХХ века. Созданный им в конце пятидесятых Московский камерный оркестр покорил публику во всем мире. Постоянными партнерами оркестра были Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс. На пике карьеры в 1977 году Баршай уехал на Запад, чтобы играть сочинения, которые были запрещены в СССР. Он руководил оркестрами в Израиле и Великобритании, Канаде и Франции, Швейцарии и Японии. Его путь к успеху и славе — нелегкий путь мальчика из казачьей станицы, случайно услышавшего в коридоре школы Лунную сонату и навсегда влюбившегося в музыку. Эта минута определила его судьбу, которая тесно переплелась с историей страны и времени. На склоне лет, в Швейцарии, перед камерой кинорежиссера Олега Дормана Баршай вспоминает о своем скитальческом детстве, о юности в годы войны, о концертах на передовой, о любви и потерях, о своих легендарных учителях, друзьях и коллегах — Д. Шостаковиче, И.Менухине, М.Ростроповиче, И. Стравинском. Книга создана по документальному фильму "Нота", снятому в 2010 году Олегом Дорманом, автором незабываемого "Подстрочника", и представляет собой исповедальный монолог маэстро за месяц до его кончины.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Олег Дорман Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
Соломон Волков. Высокая “Нота”: Рудольф Баршай вспоминает
Об этой “ноте”
Эта книга – монолог замечательного музыканта Рудольфа Борисовича Баршая (1924–2010), записанный кинорежиссером Олегом Дорманом в 2010 году в Швейцарии, незадолго до смерти Баршая.
Часть этого монолога может быть знакома тем телезрителям, которым посчастливилось увидеть показанный в 2012 году каналом “Культура” проникновенный фильм Дормана “Нота”. Но полный текст воспоминаний Баршая появляется только сейчас. И это – событие огромной важности.
Друзья Баршая, легендарные музыканты – скрипач Давид Ойстрах, пианист Эмиль Гилельс, виолончелист Мстислав Ростропович – своих мемуаров нам не оставили, по разным и сложным причинам. Это потеря огромная, невосполнимая. Тем драгоценнее воспоминания Баршая, охватывающие огромный временной отрезок (с рождения и до последних лет жизни) и до краев наполненные накрепко врезающимися в память – когда трагическими, а когда комическими – эпизодами и яркими деталями.
В совокупности это – беспрецедентная картина советской музыкальной жизни. И одновременно – волнующий автопортрет одного из ведущих ее творцов.
Баршай как личность
С Баршаем и его женой Еленой мне довелось встретиться (и, надеюсь, подружиться) в 1987 году в Лондоне. Это случилось в дни презентации на тамошнем кинофестивале фильма Testimony (“Свидетельство”), снятого британским кинорежиссером Тони Палмером по мемуарам композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, мною записанным в СССР, но опубликованным впервые на Западе.
Баршай, который к этой книге отнесся с большим энтузиазмом, стал фактически музыкальным руководителем фильма, записав для него в качестве дирижера несколько монументальных произведений Шостаковича. Эти интерпретации весьма поспособствовали успеху проекта.
Мы тогда поселились в доме Палмера и прогуливались по вечерам с Баршаем. Он много и охотно рассказывал о Шостаковиче, называя его, как все близкие друзья, Д. Д. Эти рассказы собраны теперь в “Ноте”, где они приобрели особую стереоскопическую выпуклость, свойственную хорошим живописным портретам, когда кажется, что изображенное лицо сейчас выпрыгнет из рамы.
Я, разумеется, и до того много раз видел Баршая в концертах созданного им в 1955 году Московского камерного оркестра, но не было оказии познакомиться. И вот теперь в Лондоне судьба наконец свела меня с человеком, о котором я столько слышал, в том числе и от музыкантов баршаевского коллектива. (А это, надо заметить, были фигуры незаурядные. В тогдашней Москве их почитали, как об этом вспоминал недавно в разговоре со мной Родион Щедрин, за настоящих звезд. Это был редкостный ансамбль солистов.)
Что меня тогда, помнится, поразило, – это насколько европейской личностью оказался Баршай. Передо мной был персонаж немецкого склада, такой “герр профессор”, но эту врожденную и очень импозантную серьезность окрашивало чисто английское чувство юмора.
Рассказы Баршая можно было слушать с почтением и доверием, но он не давил на собеседника ни своим авторитетом, ни эрудицией: драгоценное для повествователя качество, отчетливо проступающее в монологах “Ноты”.
Старая музыка и новая элита
Это особенно важно потому, что Баршай ведет здесь речь о вещах весьма важных. Он размышляет о судьбе так называемой высокой музыки (то есть музыки классической западной традиции) в прошлом и настоящем: о том, как ее играли и воспринимали в Советском Союзе, и о том, что с ней происходит сегодня.
Почему это нас должно волновать? Зачем нам знать то, что рассказывает Баршай о Бахе, Густаве Малере и других своих любимых композиторах? Я, например, знаю очень приличных людей, проживших насыщенную и успешную жизнь без того, чтобы услышать хотя бы одну ноту из Малера.
Но меня не покидает ощущение, что эти люди, сами того не сознавая, обокрали себя. Они не испытали того ни с чем не сравнимого экстаза, в который погружает даже неофита счастливое (в старом смысле этого слова) исполнение малеровской симфонии.
В сегодняшней России быстрым темпом – как всегда бывает в этой стране в переломные эпохи – идет формирование новой элиты. Этим людям от 20 до 40 лет. В основном они выросли в обеспеченных, привилегированных семьях. Они получили (как и их родители) хорошее образование. Но есть у них с родителями и существенная разница. Они могут быть, если захотят, гражданами мира.
В СССР слово “космополит” было бранным. Сейчас оно – brand name. Для современного российского космополита, пусть он даже живет в провинции, весь мир – его устрица, как любят говорить на Западе. Его вкусы – по крайней мере, в идеале – широки и всеядны. Он может любить рок, джаз, поп-музыку, французский шансон и “шансон” русский. Ему интересно прийти и в Мариинский театр, и на спектакль Лаборатории Дмитрия Крымова. И конечно, в круг его увлечений будут входить и музыка барокко (которую в свое время именно Баршай укоренил на русской почве), и симфонии Малера…
О Густаве Малере, странном гении
Когда-то признаком высокой культивированности вкусов человека была их принципиальная узость, эксклюзивность. Теперь – напротив, инклюзивность.
Но как не потонуть в этом огромном, слепящем, переливающемся всеми цветами радуги океане культуры? Для этого практически каждый из нас сверяется с мнением каких-то важных для нас людей. Кому-то повезло, и он может выслушать их устные рекомендации. Другие обращаются к книгам.
К числу подобных незаменимых книг-компасов я с благодарностью присоединю теперь воспоминания Баршая. Потому что о том же Малере, к примеру, немного у нас издано такого, что помогло бы ощутить все величие, необычайность и насущную необходимость его творений.
Малер – демоничен. Но через него с нами говорят ангелы. Малер трагичен. Но он дает нам последнюю надежду. Все это можно услышать в симфониях Малера.
Но при этом Малер для русских меломанов – то, что называется acquired taste, “приобретенный вкус”. В России Малера так никогда и не прижали к сердцу, как это произошло с Моцартом, Бетховеном или Шопеном.
Малера у нас очень рано оценили как великого дирижера. Чайковский еще в 1892 году в письме из Гамбурга на родину сообщал о “гениальном” местном капельмейстере по фамилии Малер. Но музыки его Чайковский не знал. Если бы услышал, то, вполне возможно, оценил бы родственную мятущуюся и возвышенную душу, тоскующую в поисках ускользающего идеала.
Множество обидных шуточек (“маляр”, “малярия” и проч.) в адрес своего кумира вдоволь наслушался один из самых страстных русских почитателей Малера – Шостакович. Он всегда говорил, что с собой на необитаемый остров взял бы именно партитуру Малера, а на вопрос о любимой симфонии Малера начинал перечислять их подряд, начиная с Первой.
К Малеру Шостаковича приохотил его друг, музыковед Иван Соллертинский, о котором Баршай тоже вспоминает. Соллертинский доказывал, что Малер – это Достоевский, пересказанный языком “чаплиниады”. (Большое изображение Чаплина на стене швейцарского дома Баршаев можно увидеть в дормановском фильме “Нота”.)
Об особом интересе Малера к Достоевскому хорошо известно, он всегда советовал друзьям читать его романы. Русские критики почти сразу заговорили о присущей малеровской музыке и идущей от Достоевского “притягательности ужаса”.
Но о Чаплине Соллертинский вспомнил, конечно, в связи с Шостаковичем. Именно Шостакович соединил в своих симфониях Малера и Чаплина и таким парадоксальным образом приблизил к нам эту ветвь австро-немецкой музыкальной традиции.
О Локшине и везении
Одна из важных тем размышлений Баршая – пути и перепутья мировых музык, их неожиданные переплетения и скрещения, часто приносящие заманчивые, хотя и терпкие плоды. И здесь возникает трагическая фигура ближайшего друга Баршая – композитора Александра Локшина.
Баршай был убежден, что Локшин – гений. С ним в этом были согласны такие авторитеты, как Шостакович и Мария Вениаминовна Юдина, великая пианистка. Почему же мы так редко слышим музыку Локшина? “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”, – это понятно. Но возможно и такое предположение: Локшин был западником. Его корни – в музыке Малера и Альбана Берга. А такие диковинные растения до сих пор с трудом приживаются на отечественной почве.
Для победоносного вхождения в канон нужны многие обстоятельства. Одно из них – везение, luck, как говорят на Западе. Для музыки Локшина такой момент еще не настал. Но усилия Баршая – и как дирижера, осуществившего премьеры шести из одиннадцати симфоний Локшина, и как мемуариста – приближают эту возможность.
“Приказ” Шостаковича: дело жизни Баршая
В Шостаковиче меня всегда удивляла и одновременно умиляла одна его особенность. Он страшно волновался за судьбу своих манускриптов. Закончив новое произведение и отдав его на переписку, он не спал ночами, думая о том, сможет ли восстановить рукопись, если ее вдруг потеряют. Шостаковича также очень заботила мысль о том, что случится с его очередным опусом, если ему по какой-то причине не удастся его завершить: он серьезно заболеет или даже умрет – мало ли что? Он держал в голове особо доверенных музыкантов (два-три человека), которые в подобном экстренном случае могли бы окончить начатое. Баршай был в числе таких возможных “завершителей”.
Шостакович предупреждал Баршая о том, что рассчитывает на него в этом смысле: речь шла о его Четырнадцатой симфонии, премьеру которой (Шостакович эту симфонию благополучно закончил) с огромным успехом провел опять же Баршай в 1969 году.
Идея “завершения” очень сильна в русской музыкальной традиции. Так Римский-Корсаков довел до конца неоконченную оперу Мусоргского “Хованщина”. “Князь Игорь” Бородина был дописан Римским-Корсаковым и Глазуновым. Сам Шостакович, помимо собственной редакции “Хованщины”, с любовью завершил и оркестровал оперу “Скрипка Ротшильда” по Чехову своего ученика Вениамина Флейшмана, погибшего на фронте.
Поэтому неудивительно, что Шостакович буквально приказал Баршаю закончить “Искусство фуги” – последнее сочинение Баха. Д. Д. сказал Баршаю: “Вы ведь знаете, что Бах был человек суровый, строгий. Я себе хорошо представляю, как он был бы возмущен, что вы играете его произведение без окончания”.
То есть Шостакович просто поставил себя на место Баха! Если кто и имел на это право, так это он. И этот приказ Шостаковича Баршай выполнил. Завершение “Искусства фуги” Баха (и Десятой симфонии Малера – любимого композитора Шостаковича) стало, по свидетельству Баршая, главным делом его жизни, растянувшимся на десятилетия, трудом мучительным и радостным.
“Воскрешение предков”
Эта идея “завершения” смыкается с другой, чисто русской идеей “воскрешения предков” религиозного философа-космиста Николая Федорова (1829–1903). Федоров считал, что стремление к такому воскрешению есть наш долг перед предками, наша “самая высшая и безусловно всеобщая нравственность, нравственность естественная для разумных и чувствующих существ”. От исполнения этого “долга воскрешения”, настаивал Федоров, зависит судьба рода человеческого. С ним в этом полностью соглашались такие титаны религиозной мысли, как Владимир Соловьев и Лев Толстой.
Через сотню лет идеи Федорова аукнулись в разговорах со мной Иосифа Бродского, когда он вспоминал о похоронах Ахматовой. Все в Бродском воспротивилось услышанному им тогда в одной из надгробных речей: “с уходом Ахматовой кончилось…”
“Ничто не кончилось, ничто не могло и не может кончиться, пока существуем мы” – так высказался тогда Бродский. И действительно, своими писаниями и воспоминаниями Бродский помог продлить бытие Ахматовой для следующих поколений, тем самым ее “воскрешая”.
Такой же была жизненная цель Рудольфа Баршая. Он помог воскрешению для нас Баха и Малера. А его самого воскресил для всех нас Олег Дорман своей “Нотой” – фильмом и книгой. Низкий им за это поклон.
Слова благодарности
Мы можем прочесть эту книгу благодаря доверию и откровенности Рудольфа Борисовича Баршая, его готовности потратить на нас время в последние месяцы своей жизни. Хочу выразить глубокую благодарность Елене Сергеевне Баршай-Расковой за помощь и поддержку, без которых не было бы ни фильма, ни книги. Сердечное спасибо сыновьям Рудольфа Борисовича – Владимиру, Льву и Александру, а также коллегам Баршая по Московскому камерному оркестру – Михаилу Тайцу и Науму Зайделю, которые с готовностью отвечали на мои вопросы, уточняя хронологию, имена и некоторые подробности повествования; Александру Александровичу Локшину, разрешившему опубликовать здесь переписку своего отца с Р. Б. Баршаем; Вере Павловой за нашу встречу с Р. Б.; Феликсу Дектору, лучшему продюсеру на свете; Екатерине Дорман, с которой мы все делали вместе; Инне Алексеевне Барсовой, крупнейшему знатоку творчества Малера; Сергею Шумакову, показавшему фильм на телеканале “Культура”; режиссеру и музыканту Бруно Монсенжону; Марии Шпониной, хранительнице архива Московской филармонии; Тасе Круговых, Сергею Пархоменко, Елене Каллистратовой, Елене Палаш, Ирене Томмен, Рите Ураловой, Юлии Ароновой, Марине Фроловой-Уокер, семье Золотухиных, семье Брагинских, Людмиле Голубкиной, Ксении Старосельской, Виллену Кандрору, Михаилу Богину, семье Радзивонов, семье Рудницких, Ивану Кузину, Леониду Гиршовичу, Марии и Анне Сорокиным, Дмитрию Ситковецкому; компании Brilliant Music; компании EuroArts. Спасибо Варе Горностаевой за то, что мы держим эту книгу в руках, и еще за многое. Моя глубокая признательность редактору Ирине Кузнецовой, музыкальному редактору Елене Двоскиной и Соломону Волкову, написавшему предисловие. Особая благодарность Людмиле и Инне Бирчанским.
Посвящаю свою работу моему сыну Давиду Дорману.
Олег Дорман
Нота
Меня зовут Баршай Рудольф Борисович. Я музыкант. Больше тридцати лет тому назад я уехал из Советского Союза, и после некоторых странствий мы с женой поселились в Рамлинсбурге. Это поселок, по здешним понятиям – деревня, неподалеку от Базеля, в Швейцарии. Мою жену зовут Баршай-Раскова Елена Сергеевна. Она органистка.
Здешние места, очень красивые, иногда напоминают те, где я рос ребенком. Тут есть одна гора, совсем как там была у нас, в станице Лабинской – Железная гора. Когда я гуляю и иду мимо, то, бывает, очень волнуюсь.
Боюсь, у меня ничего бы не было в жизни, если бы там остался, в России. Пустая была бы жизнь. Чего не было бы? Не было бы записей Малера, не было бы его Десятой симфонии. Работа над окончанием этой гениальной, великой симфонии – большая часть моей жизни. Если в жизни я сделал что-либо очень ценного, то это две вещи. Первая – “Искусство фуги” Баха, второе – Десятая Малера: окончание того и окончание другого. Я больше всего благодарен судьбе, благодарен Богу за то, что мне разрешили прикоснуться к этой великой музыке.
Сейчас мне восемьдесят шесть лет. К сожалению, я уже несколько месяцев не дирижирую, подвело немножко здоровье, но я буду в октябре выступать на концерте в Горише, под Дрезденом. Мне там вручают какую-то премию, но главное, я буду играть свое переложение для оркестра Восьмого квартета Шостаковича в том самом месте, где Дмитрий Дмитриевич написал эту музыку. Его тогда, чтобы сделать председателем Союза советских композиторов, принудили вступить в коммунистическую партию. Это была страшная беда для него. Дмитрий Дмитриевич поехал в командировку в этот самый Гориш и написал там квартет с тайным эпиграфом, который открыл только в письме своему близкому другу: “Памяти создателя этой музыки посвящается”. Это трагическая и великая музыка. Когда сам Шостакович прочитал то, что сочинил, он заплакал. И вот мы будем с оркестром играть.
Но еще до октября я должен сдать в издательство “Сикорски” работу, которой я сейчас живу. Я внес много новых поправок в оркестровку “Искусства фуги” Баха, надо перевести их в чернила, и, честно говоря, я поступил легкомысленно, когда назначил наши съемки на это время. Но я подумал, что рассказать о прожитом, на русском языке, вспомнить людей, которым я обязан, – когда еще представится такая возможность? Мне кажется, я должен это сделать.
1
Мама была дочкой атамана Кубанского войска. Жили они в станице Лабинской. Речка Лаба – приток Кубани. Атаман – это очень высокий чин, и, соответственно, мама получила очень хорошее образование. Он отправил свою дочку в Майкоп, в лицей благородных девиц. Там она изучала языки, немножко музыку, играла на рояле – была очень образованная девица. А кроме того, говорили, что казачка Мария – самая красивая женщина на Кубани. И правда, так оно и было, мама была очень красива. И папа потерял голову. Он приехал в эту станицу по делам каким-то, он был коммивояжер, такой, знаете, командировочный, ездил по делам фирмы. И влюбился, потерял голову. И женился.
Звали его Бенджамином, Беньямином по-еврейски. С таким именем в дальнейшем жить он не рискнул. При советской власти за такие имена преследовали. Он изменил имя. Думаю, это не очень страшно – это ведь не то что изменить Богу. Папин старший брат Арон геройски воевал в Первую мировую, и генерал ему сказал: “Арон, крестись, большую карьеру в армии сделаешь”. На что этот умница Арон ответил: “Ваше превосходительство, если я изменю своему Богу, то могу изменить и царю-батюшке, а этого я бы никогда не хотел”. Генерал похлопал его по плечу, сказал: “Молодец, Арон!” – и потом всячески ему помогал.
Мама вышла замуж за еврея не по случайности. Ее отец, главный атаман казачий Давид Алексеев, был субботником, он принял еврейскую веру. И за ним вся станица последовала. Они там все были субботники. В станице был особый дом, синагога, куда все эти казаки ходили молиться. Помню, как они наматывали себе на руку специальный кожаный ремешок, на лоб – коробочку со священными текстами внутри, и молились.
Дед верил глубоко, искренне, дома все обряды строго соблюдались. Если увидит на столе одновременно мясное и молочное – мог кухню разнести. И вот он хотел, чтобы мама вышла замуж за еврея. Но до свадьбы их не дожил, умер от эпидемии оспы, оставил вдову, бабушку Веру, с четырьмя дочками, мамиными сестрами, и два дома. На свадьбу бабушка подарила один из этих домов маме и отцу.
Папа был родом из местечка Свислочь в Белоруссии. Его предки, как я знаю, пришли туда из Венгрии, Баршай – распространенная фамилия в Венгрии. Возле будапештской консерватории даже есть улица Баршая – Баршай Уца. И местные все меня пытали: “Ну, признайся, Рудольф, что ты мадьяр”. Ни фига. Не мадьяр.
Папин отец был мудрейший человек. Звали его Вульф Баршай. Он был в тех местах вроде третейского судьи, пользовался огромным уважением. Мы к ним ездили несколько раз с папой и мамой. Местные дамы маму плохо приняли. И еврейки, и белоруски, они там заодно были, за что-то ее невзлюбили, и мама очень переживала. Однажды я вытирал свои игрушки – у меня был такой ритуал, раз в неделю я наводил порядок и протирал тряпкой все игрушки, – а мама с дедушкой Вульфом сидела в другой комнатке за столом и плакала. Я не знал, что поделать. Я маму любил нежно, страстно, самозабвенно, и мне всегда так было больно, если ей что-то не так… А дедушка положил ладонь ей на руку и говорит: “Не плачь, Мария, не плачь, милая, они так отнеслись к тебе только потому, что ты очень красивая. Ты такая красивая, каких на свете мало, и поэтому женщины завидуют. Ты их пойми и постарайся простить”. Вот так он говорил, и постепенно мама успокаивалась, успокаивалась. Он встал, обнял ее и привел ко мне: поиграй лучше с сынишкой.
У папы было несколько братьев. Один поехал в Одессу, стал очень образованным человеком и сделался известным книготорговцем. Он умер еще до войны. А другой брат тоже был книжником, его в России хорошо знали: он стал директором Коллектора массовых библиотек. И благодаря ему я в свое время смог прочесть книги, которые очень мало кто в Советском Союзе имел право читать. Они издавались специально для высшего партийного аппарата, для номенклатуры. Мемуары Черчилля, например.
Детство я провел в раю, до четырех лет. Это что-то удивительное, какая была там прелесть, в нашей Лабинской. Какая зелень, какие там были фрукты, какие там были арбузы! Сидим за столом, и папа говорит нашей работнице, Дусе: смотри-ка, Дуся, телега идет, арбузы везут. Сбегай, пожалуйста, узнай, сколько за всю телегу он хочет. Дуся сбегала, вернулась. Пятнадцать рублей вся телега. Значит, по семь копеек за арбуз. Другой наш работник головой качает: “Дороговато. А ну, я сбегаю, может, он за десять телегу отдаст”. Побежал, вернулся, говорит: уже купили все. А через пять минут еще телега едет.
Бабушка меня очень любила, баловала, стремилась что-то для меня приятное сделать. Однажды позвала на рыбалку. Пойдем, говорит, на Лабу, я купила снасти. Только сначала червяков накопаем. Пошли с ней в огород, накопали червяков, положили в банку, отправились на реку. По дороге встретили знакомого казака. Он посмотрел в банку и говорит: “Надо ж, какие червяки жирные. Сам бы съел – да рыбе надо!” Смешно, правда? В простом народе, знаете, в деревнях, очень много людей и занятных, и приятных, и остроумных по-своему. И нет оснований над их остроумием посмеиваться свысока, можно только восхищаться им.
Потом начались репрессии. Это год двадцать восьмой – двадцать девятый. Репрессировали, главным образом, семьи состоятельных землевладельцев, каким, конечно, был мой покойный дед-атаман. Всякий, кто имел собственный дом, подлежал репрессиям. Расстреливали или ссылали в Сибирь. Оставаться было опасно для жизни. И однажды папа пришел к нам и сказал: дети мои, сегодня ночью в четыре часа будет за нами подвода, “линейка”, мы уезжаем отсюда навсегда. Собирайте только самое важное, берите теплые вещи.
Помню, как я сидел на верху груды чемоданов и узлов, повязанный бабушкиным платком. Было холодно, в горах уже выпал снег.
Всю жизнь я мечтал снова оказаться в Лабинской. И спустя много лет, уже будучи дирижером, приехал с оркестром на гастроли в эти места. Мы давали концерт в Пятигорске. На него пришли казаки, послушали, похлопали, потом подошли ко мне: “Дирижер, ты откуда родом?” – “Из Лабинской”. – “Ну точно, он. Пойдешь после концерта к нам ужинать, мы твои родственники. Друзей приводи”.
Сидим, выпиваем, мне говорят: “Сейчас придет двоюродный дед твой, брат Давида Алексеева. Он совсем старенький, мы хотели за ним сходить, привести, но он сказал, что казак и может сам дойти”. Казаки ведь гордые очень.
Дверь открывается – стоит дед. Щупленький, маленький, в сапогах, в казачьей форме. Остановился в дверях, стоит и смотрит на меня. Потом говорит: “Руня, это ты?” Я говорю: “Я”. – “А ты помнишь, как я тебя на коленях держал?” – “Помню”.
И он заплакал. Стоя в дверях, этот казак заплакал.
2
Папа повез нас – меня, маму и бабушку Веру – в Среднюю Азию, в Ташкент. Вероятно, уже тогда люди по опыту знали, что если уехать подальше от родных мест, то ЧК не будет разыскивать: еще неважно у них была связь налажена. В Ташкенте мы где-то поселились, папа поступил на бухгалтерские курсы, но вскоре вдруг встретил на улице человека, которого знал по прежней жизни. Это наверняка была чистая случайность. Тем не менее папа в ту же ночь увез нас из Ташкента. Он боялся. Опасался, что человек может нас выдать или даже что он нарочно за нами послан вдогонку. И потом это повторялось: стоило папе встретить знакомого из России – он немедленно переезжал с нами в другой кишлак.
Мы скитались, папа искал работу, узбеки, удивительные, загадочные, в длинных своих халатах, были очень добры, неторопливо кивали, слушали папу – не знаю, как ему удавалось с ними разговаривать, наверное, на курсах он все-таки кое-что выучил по-узбекски, – и наконец – удача: в одном кишлаке срочно нужен бухгалтер в хлопководческий совхоз.
Кишлак назывался Чиназ. Дюжина домов, сложенных из кизяка. Кизяки знаете что такое? Навоз сушеный. Вот в таком доме мы поселились. Он имел единственное отверстие, дыру в стене, которая служила и окном, и дверью. Мама на нее занавесочку повесила. Была еще вторая дырка, в потолке, которая служила дымоходом, чтоб через нее дым выходил, так как готовить надо было на огне прямо в комнате. Зимой через эту дырку хлестал дождь.
Помню, сижу на полу с игрушками, а мама стоит у очага, готовит, и у нее слезы текут. От дыма как будто, но я понимаю, что она плачет. Я подбежал, обнял ее, хотел успокоить – ну, мальчишка, сколько мне было – пять, шесть лет… Но чем больше успокаивал, тем сильнее она плакала. Сейчас я вспоминаю это, как будто снова ножом ведут по сердцу. Я не мог выносить, чтобы мама плакала. И еще – если они с папой ссорились. Это очень редко бывало, но один раз я застал, и от ужаса меня стала бить дрожь.
Узбеки приняли нас хорошо. Они оказались очень сердечными, дружелюбными людьми, хотя с виду казались суровыми. Будешь суровым, когда целый день надо собирать хлопок под палящим солнцем. А кроме того, папа стал бухгалтером колхоза, а бухгалтер в колхозе – главный человек, от него зависят все деньги, все распределения этих “трудодней”, зарплаты. И нас часто приглашали в гости к самому директору совхоза. На ужин всегда был плов. Готовил его хозяин дома. Женщины только мыли потом посуду и делали шурпу. То есть в те же пиалочки, из которых мы ели плов, нам потом наливали суп, очень наваристый, из бараньей кости. Это было обязательно – после жирного плова есть горячий суп.
Мы, конечно, приходили втроем. Но женщины не имеют права сидеть с мужчинами за одним столом, поэтому меня с мамой усаживали отдельно, в соседней комнате. Узбечки были очень ласковы и со мной, и с ней. Вообще плов едят руками, закатывают рукав, жир течет, очень аппетитно. Но нам с мамой, к моему огорчению, давали ложечки и клали нам плов в отдельные миски, чтобы было удобнее есть. Это было наслаждение. Сколько потом в жизни я ни искал такого плова в лучших ресторанах мира, и даже в лучших узбекских ресторанах, – больше не повторилось.
3
В кишлаке под Бухарой начиналось строительство военного аэродрома. Требовался главный бухгалтер, и папа им подошел. Мы переехали.
Это уже была солидная, настоящая работа. У нас появилась своя корова. А за хорошее поведение папа однажды подарил мне ослика. Я немедленно решил съездить на нем в Бухару.
По дороге страшно хотелось пить. Мы с осликом останавливались в оазисах, там были колодцы, а рядом в корыте – вода для скота. Пока мой ослик пил, я вспоминал главу из Библии, которую читал нам дедушка: один раз в неделю дай отдохнуть и ослу своему. И я говорил ослику: пей, пей, отдыхай!
Бухара – сказочный город, фантастический, как мираж. Но по пути я страшно устал, жара была невыносимая, мне хотелось посмотреть все интересное: тут башня, с которой скидывали неверных жен, там минарет какого-то великого хана… В общем, в конце концов я снова сел на ослика и говорю: “Давай поедем домой, а?” – и заснул. И вот – вы не поверите, в это невозможно поверить – проснулся я во дворе нашего дома. Он меня привез сам. Нашел дорогу! И даже, видимо, не остановился попить в оазисе, а может, остановился, только я не слышал. Вот такой был милый ослик, такой умный, с такими навигаторскими способностями. Я его никогда не забываю. И когда мы с Леной сбиваемся с шоссе какого-нибудь или не знаем, где повернуть, я говорю: сейчас бы моего ослика сюда – он бы нам показал куда. И еще сержусь, если кого-нибудь называют ослом. Не надо обижать замечательное животное.
Мне бы, возможно, досталось за такое путешествие, но тем временем произошло нечто худшее: папа снова встретил знакомого из прежней жизни.
Папа вовсе не был трусоват, он просто остро чувствовал время. Он говорил: “Происходит революция, то есть перераспределение богатств. Один класс владел богатствами, теперь будет другой владеть. С этим придется считаться”.
Мы быстро собрали вещи и переехали в Красноводск.
4
И отсюда папа каким-то мне неведомым образом связался (а может, они сами его нашли) с маминой сестрой тетей Лидой и ее мужем дядей Матвеем. Они пешком ушли из Ставрополя, бежали, в пути их маленький сын Давид получил воспаление легких и, когда добрались до Баку, умер. Они звали нас к себе в Баку, обещали найти отцу работу.
Красноводск стоит на берегу Каспийского моря. Мы сели на пароход и поплыли в Баку. Пароход был переполнен беженцами – узбеки, русские, украинцы, азербайджанцы, персы. С баулами, мешками, торбами – мало у кого был чемодан.
Ночевали мы на палубе. По пути у какого-то пассажира пропали часы. Заподозрили в этом одного матроса. Не то чтобы обвинили прямо, но заподозрили. Наступил вечер. Вдруг смотрю – в стороне от людей кто-то ходит по поручню палубы: туда-сюда. Вижу – этот вот парень, матрос. Он ужасно переживал. Вероятно, такой гордый, честный был человек. Я не успел никого позвать, как он прыгнул в воду. На пароходе объявили тревогу: человек за бортом. Остановили корабль. А парень поплыл. Спустили шлюпку – хотят ему помочь, поднять на борт. Тогда он сорвал с головы бескозырку, бросил ее в море подальше и плывет прочь. А шлюпка вдруг остановилась. Оказывается, это у моряков такой знак: если бросают бескозырку, значит – не спасайте меня.
Парень скрылся в темноте, а корабль стоял, капитан не давал отплытия. И все пассажиры стояли на палубе, смотрели в темноту, женщины плакали. Потом раздался долгий-долгий гудок, и пароход пошел.
Приплыли в Баку. Тетя Лида – такая же красавица, как мама, только более миниатюрная. Они с дядей встретили нас, усадили в фаэтон, там фаэтоны ходили, привезли к себе домой. Дядя отцу говорит: “Есть для тебя интересное место, но не в Баку, а в Кировабаде, поедешь?” – “Конечно поеду!”
Кировабад – это бывшая Гянджа, город на границе с Персией, известный тем, что там происходили колоссальные армяно-турецкие резни. Основные сражения шли на мосту через Гянджинку, и вода становилась красной от крови, это нам местные рассказывали. Кроме того, там, в Гяндже, бывали религиозные праздники. А у мусульман некоторые религиозные праздники очень жестокие. Например, шахсей-вахсей. Идут люди, один за другим, у каждого в руках цепь. И тот, который сзади, бьет переднего этой цепью по спине. Его самого тоже бьют. Они замаливают грехи таким образом. Разбивают друг друга в кровь. Бывает, люди погибают от побоев. Погибшего причисляют к праведникам. При большевиках, должен сказать, это прекратилось, многих религиозных фанатиков репрессировали.
Там, в Кировабаде, мне исполнилось семь лет и я пошел в школу. Учились мы на русском, но все мои друзья были тюрки, и я научился хорошо по-тюркски разговаривать. Самого моего большого друга звали Тургут. Он был старше, и в тринадцать лет ему, по мусульманскому обряду, сделали обрезание. Сколько буду жив, буду этот крик помнить. Бедный парень, как он орал, ой как он орал! Его дом был напротив, через двор, я все слышал. Мне было так его жалко – не могу передать. Он был чудесный парень, и вообще у меня осталось воспоминание о тюрках как об очень хороших людях, честных, смелых, порядочных, которым можно верить, они если что-то пообещают – сделают.
Папа мой приятельствовал там с одним человеком, который был по происхождению перс. Однажды он пришел к отцу и сказал: “Борис, отсюда надо сматывать как можно скорей, Сталин намерен объявить себя царем”. Я был маленьким, меня не стеснялись, я слышал этот разговор. “У меня, – говорит, – есть товарищ, который за определенную сумму проведет нас через горы в Персию”.
Мама была тогда больна, она подхватила бруцеллез, это страшная болезнь, которая передается, кажется, овцами, мама выпила зараженного молока. Ехать с ней, больной, с маленьким ребенком, с бабушкой, переходить через высокие горы, где холод, снег, ледники, папа не решился. А приятель тот ушел, и семья его с ним.
После этого оставаться в Кировабаде сделалось опасно.
Все знали, что папа водил дружбу с этим персом. За папой начали следить. Попытались завербовать. Он отказался и сказал маме: просто так не отвяжутся, надо скорее уезжать. Тем временем приходили весточки от кубанских, котрые перебрались поближе к Москве. Возникло ощущение, что именно под боком у огромной Москвы, где-нибудь в области, можно затеряться и жить в безопасности. Папа оставил нас и поехал туда искать работу. Вскоре нашел – в городе Калинине, это бывшая Тверь. Вернулся в Кировабад за нами, хотел забрать и дядю с тетей, но они наотрез отказались уезжать. Они хотели жить рядом с могилой сына.
Перед отъездом мы пошли на кладбище. Под памятником стояла жестянка с тертым кирпичом и лежала влажная тряпочка. Дядя с тетей очень часто приходили сюда и протирали надгробие. Я взял тряпочку, обмакнул в кирпичный порошок и стал драить. И вдруг чувствую – в руке что-то шевелится. Я разжал ладонь и увидел скорпиона. Ребята, школьные товарищи, уже научили меня, что если скорпиона положить на землю и окружить огненным кольцом, например, разложить вокруг него бумажки и поджечь, то скорпион побежит в одну сторону, в другую, в третью – он, видимо, чувствует стороны света – и когда убедится, что спасения нет, ужалит сам себя хвостом в голову.
Взрослых рядом не было, они, наверное, отошли за водой. А спички имелись – как десятилетнему мальчику без спичек. И я все это проделал. И – ужасно – все оказалось правдой. Скорпион, не дожидаясь, чтобы огонь сжег его или погас и открыл путь к бегству, ужалил себя в голову и погиб.
Я потом долгие годы возил этого засушенного скорпиона в баночке за собой.
5
Калинин оказался чудесным городом: три реки – Волга, Тьмака и Тверца, множество старинных домов еще сохранилось, сады. Папа работал при главке легкой промышленности, был доволен, что так повезло с работой, и скоро они с мамой сумели обзавестись собственным домом. То ли купили какое-то старое здание, то ли просто амбар перестроили – но, в общем, получился славный маленький домик.
Самое главное было новая школа и новые товарищи. Пришел я в класс. Первым делом кто-то обозвал меня евреем. Я развернулся и заехал ему кулаком в нос. После уроков этот парнишка привел своих дружков постарше, и они отвалтузили меня так, что я дней десять не мог подняться с постели. В школе узнали, устроили педсовет, и мальчишку единогласно исключили из школы. Но директрисе этого показалось мало, она стала грозить, что отправит его в детскую колонию.
К нам домой пришла его мама. Совсем простая женщина, бедная, несчастная. Заплакала и встала передо мной на колени: прости дурака, прости моего несмышленыша, он никогда больше не будет. Я говорю: “Что вы, что вы, да я его простил, я совсем на него зла не держу, только вы встаньте, пожалуйста”. – “Я могу ему передать, что простил, да?” – “Передайте, конечно”. В общем, слава богу, спасли его от колонии.
Я к десяти годам хорошо понимал, что я еврей, и хорошо понимал, что я русский. Во мне это не было никаким противоречием. Если при мне кто-то нехорошо говорит о евреях – я еврей. Если кто-то ругает русских или пренебрежительно говорит о русской культуре – я русский. Мои предки по маме были русскими, но они приняли еврейскую веру, она мне нравится, она мне кажется очень справедливой. Если что-то я не могу простить и считаю великим грехом, то это когда человек малодушно скрывает свою национальность.
Все дни, пока я лежал, к нам приходила после уроков моя новая классная руководительница. Она оказалась доброй и мудрой, хотя была совсем молодая женщина – Зинаида Васильевна Алексеева. Увидела, что я хорошо разбираюсь в математике, и раз приводит к нам здоровенного парня, переростка, который тоже учился в нашем классе, Тихомиров, кажется, его фамилия. Он был сыном машиниста, носил фуражку отцовскую, руки всегда закопченные. Видимо, поздно пошел учиться и третий год сидел в одном классе, не переводили его. Математика Тихомирову не давалась совсем. И вот Зинаида Васильевна привела его ко мне и попросила, чтобы я помог, стал бы его репетитором. А он, говорит, будет тебе защитником и никому не позволит тебя обижать.
Стали мы заниматься. Этот Тихомиров оказался хорошим парнем, я его полюбил, а он проникся ко мне таким уважением, что просто сделался братом старшим, рыцарем моим, и если кто-нибудь только повышал на меня голос, он этого человека потом без разговоров молотил, и все. Конечно, я когда узнал, то прекратил это дело, но дружба наша продолжилась, он с моей помощью освоил-таки математику и перешел в следующий класс.
Тихомиров мне помогал добывать жесть для самолетных подшипников. Там, в Калинине, я увлекся конструированием. Не сразу. Вначале были птицы. Кенари, щеглы, скворца я учил разговаривать. Но особенно голуби. Я месяцами копил карманные деньги, покупал птиц на рынке, обменивал, ухаживал за ними. Когда турманы взмывали в небо и широкими плавными кругами летали в высоте, я мог смотреть часами. Почему-то все тогда увлекались голубями. То ли это было самое доступное развлечение, то ли многими людьми овладела тайная страсть к полету. Мальчишкам-то она всегда свойственна, но и многие взрослые держали тогда голубятни.
Я смотрел-смотрел, как птицы летают, и, само собой, пошли у меня самолеты, модели. Резиномотор, знаете, что такое? Модель клеится из липовых реек, на лопасти натягиваешь папиросную бумагу, винты вставляются в подшипнички, а потом делается жгут из резинок, его смазывают касторовым маслом, закручивают, натягивают и отпускают. Задача – чтобы самолет летел ровно и как можно дольше. Постепенно я научился хорошо строить и сделал большой планер, с кабиной, пропеллером, крыльями метр в размахе. Все собрались на улице перед домом, родители, соседи, был произведен торжественный запуск, все захлопали в ладоши, самолет перелетел соседний забор, врезался в дерево и упал.
Я записался в кружок юных техников. Стал собирать автомобиль с дистанционным управлением, нашел в журнале чертеж. Там надо было для мотора намотать катушку на три тысячи оборотов. Я эти три тысячи крутил вручную – несколько дней, кажется. После школы и каждый выходной мчался в клуб и крутил там проволоку. Наконец все сделал, оставалось только собрать. Прибежал наутро в клуб, открыл шкаф, где все это хранилось, – а катушки нет. Украли ее. Тихомиров грозился найти вора, но как найдешь?
Тогда я занялся радио. Продал двух голубей, купил детектор, другие детали, все, конечно, примитивное. Катушки снова крутил сам – был уже в этом деле асом. И он заработал, приемник мой. К большой радости мамы с папой и моему изумлению, отлично заработал, принимал разные станции. Только был тиховатый, я его сделал не с наушниками, а с маленькими динамиками, но родителям хватало. Ладно, думаю: за что бы еще взяться?
6
Однажды на переменке подошла Зинаида Васильевна и говорит: Рудик, пойди в актовый зал, там набирают мальчиков в хор, пускай тебя послушают. Я пошел. У пианино сидел незнакомый человек, его звали Николай Иванович Пименов, директор калининской музыкальной школы. Никогда его не забуду. Он вел прослушивание, и меня в числе других мальчиков отобрал. Два раза в неделю я стал ходить по длинному-длинному Студенческому переулку от нашего домика в музыкальную школу петь в хоре.
Однажды вечером после репетиции я шел по темному коридору и вдруг услышал музыку. Она меня ошеломила, как будто громом поразила. Я остановился около класса, откуда музыка эта шла, остановился и стою. Потом подошел тихонечко, приоткрыл дверь немножко, смотрю – сидит женщина, педагог очевидно, и играет на рояле. Она меня увидела: “Мальчик, заходи, заходи, не стесняйся”. Я зашел, прикрыл дверь, встал около двери и слушал. Слушал… Когда она закончила, я спросил: “А что это вы играли?” Она сказала: “Это Лунная соната Бетховена”.
Какое-то есть слово по-немецки… – ну, в общем, оно значит “завороженный”. Завороженный, я шел домой по Студенческому переулку, и все время у меня в голове эта музыка звучала. Я не мог ее забыть. И когда пришел домой, первое, что я сказал папе: “Папа, купи мне, пожалуйста, пианино. Я хочу учиться музыке. Я вот сейчас слышал такое… Хочу играть эту музыку”.
В следующий выходной день, в воскресенье, папа пошел на рынок. “Пойду, – говорит, – покупать тебе пианино”. Пришел с рынка и говорит: “Пианино я тебе купить не смог, оно слишком дорого стоило. Но я купил тебе скрипочку”.
Внешне мне вещь понравилась. Я потрогал завиток, покрутил ручки черные, заглянул в эф – это резонаторное отверстие, которое имеет форму рукописной буквы f, поэтому “эф” называется, – и прочитал там внутри латинские буквы: “Страдивариус”. Конечно, это была обычная подделка. Ну, в лучшем случае копия какая-то.
Я едва дождался понедельника, не помню, как высидел на уроках, и помчался в музыкальную школу, к Николаю Ивановичу. “Вот, говорю, мне папа купил скрипочку, я хочу учиться теперь на скрипке”. – “Что ж, давай. Попробуй. Определю тебя к Алексею Ивановичу Лойко, очень хороший педагог”.
Алексей Иванович вел урок. “Садись, – говорит, – послушай, посмотри, как мы занимаемся”. У одного мальчика что-то не получалось. Алексей Иванович взял скрипку и стал показывать, как надо. И когда он заиграл… Мне казалось, передо мной не человек, а бог. Даже не скрипач, а певец: его скрипка пела, не играла, а пела. Я боялся, что он дойдет до конца пассажа и остановится, но он глянул на меня, что-то, вероятно, почувствовал, и продолжал. Я был совершенно очарован самим звуком, и мысль, что я начну учиться и сумею так играть, полностью захватила меня. Все, в одно мгновенье мне все стало ясно: музыке хочу учиться. Я должен в жизни быть музыкантом. Вот моя задача. И детство кончилось.
7
Алексей Иванович снабдил меня нотами, упражнениями, я пришел домой и начал заниматься.
Первые упражнения, конечно, самые простые. Играть плавно, легато, разрабатывать пальцы. Я старался выполнять все очень аккуратно, повторять ровно столько раз, сколько там написано. Скажем, десять нот нужно сыграть пять раз подряд. Играю. Потом другое упражнение.
Начал учиться. Но вскоре случилась беда. Мой любимый Алексей Иванович Лойко, оказалось, сильно выпивал. Это беда многих русских музыкантов. И вот он запил так, что заболел и чуть не умер.
Пименов передал меня другому учителю. Мы занимались, и на каком-то школьном вечере я сыграл концерт Ридинга – простой, ученический, но все-таки перед публикой, и мне очень понравилось, что из-под моих рук выходят такие звуки. Моему другу Тихомирову тоже понравилось, он как-то бережно потряс мне руку своей лапой, а папа несколько растерялся, потому что Николай Иванович ему сказал: “Вы, Борис Владимирович, поощряйте музыкальные занятия своего мальчика, у него большие способности”.
Возможностей послушать музыку в Твери было немного. Однажды на гастроли приехал Буся Гольдштейн. Это был вундеркинд, который в одиннадцать лет играл на концерте в присутствии Сталина. Сталин умилился, пригласил его в Кремль. Само собой, о Бусе и доброте товарища Сталина узнала вся страна. А кто на самом деле был добрым, так это Буся. Потом мы были хорошо знакомы. Какой он был чудесный, какая добрая у него была душа! Когда после конкурса в Брюсселе Сталин пожаловал ему большущие деньги, он до копейки их роздал, потому что все к нему обращались: и одесситы старые какие-то, и те, кто где-нибудь с ним учился, и все кому не лень: “Буся, одолжи тысячу рублей, Буся…” Он, не считаясь, вынимал, отдавал, раздавал деньги. И конечно, забывал кому, и никто ему не возвратил. Всё он растратил. А в двенадцать лет Буся записал концерт Мендельсона, я потом эту пластинку достал, берег долгие годы, как зеницу ока, так это было изумительно сыграно.
Но не только Бусина игра меня впечатлила. Приемничек мой работал. Время от времени удавалось поймать музыкальные программы, иногда какие-то фрагменты, несколько тактов, которые заглушал треск и свист. Я почувствовал, что мои занятия – этого недостаточно, этого маловато, нужно что-то более серьезное. И я сказал: “Папа, мне надо поехать в Москву”.
Папа, хоть и не сразу, согласился. В Москве, на улице, кажется, Карла Маркса, жила его сестра, моя тетя. Она сказала: пойдем, отведу тебя в Центральную музыкальную школу при консерватории. Давай попробуем, чем черт не шутит.
Пошли. Тетя как-то убедительно отрекомендовала меня директору школы, и та говорит: “А у тебя скрипочка с собой?” Я говорю: “С собой”. – “Идем, я тебя отведу к профессору”. Взяла за руку и повела.
Профессора звали Владимир Миронович Вульфман. Я сыграл ему тот же концерт Ридинга, что-то еще, он послушал и потом говорит: “Ну, конечно, у тебя способности есть к музыке, а к скрипке особенно. Но, понимаешь, ты перерос свое время. В твое время ребята уже играют знаешь какие произведения! Паганини, например”. Куда мне было до Паганини… “У тебя хорошие отметки в школе?” – “Хорошие”. У меня в школе были одни пятерки. “Ну вот, поезжай домой, иди в школу, учись серьезно и скажи родителям, чтобы они тебе выбрали профессию”.
Отставка полная. Я вернулся домой на поезде, весь в слезах. Плакал, плакал, не мог успокоиться. Ужас. А скрипку положил на шкаф. Стал ходить в школу, продолжал петь в хоре.
Потом, в один прекрасный день, вскоре, я вдруг встал рано утром, залез на шкаф, забрал скрипку, вытер ее, натянул струны, наканифолил смычок – и начал заниматься сам. Я все эти упражнения начал заново учить. Пошел в магазин на центральной улице, где продавались ноты, выбрал этюды, потом купил сурдиночку, которая приглушает звук. Завел будильник на шесть утра, положил под подушку, чтобы никого не разбудить. На другой день по будильнику встал, пошел на кухню, надел на струны сурдиночку и полтора-два часа до школы занимался. И потом – каждый день. Кончились мои голуби, мои модели: я прибегал из школы, делал уроки, брал скрипку – и вперед. Но как! Очень рьяно. Старался каждую ноту пальцем выстукивать, как молоточком, пока не укрепил себе пальцы.
Музыка во мне заговорила. Это было как наваждение какое-то. Я бредил музыкой. Мне все время музыка снилась – то, что я уже слышал, либо незнакомая музыка, вроде как будто я сочиняю чего-то такое.
Снова пошел в нотный отдел. Там продавалась “Сицилиана” Баха. Я разобрал ее, отработал все штрихи (штрих – это движение смычка по струне: штрих вверх, штрих вниз), выучил и говорю папе: мне надо снова в Москву съездить. А папа возражал. Он говорил: “Не надо тебе быть скрипачом, будь инженером приличным и умей играть на скрипке, вот и хватит”. Потом, конечно, он зауважал мое стремление, но поначалу с бóльшим пониманием отнеслась мама. Тут сказалось, видимо, ее образование очень интеллигентное, она ведь изучала музыку в Институте благородных девиц. Ну, я настаивал так, что в конце концов папа понял – деваться некуда, и дал мне сто рублей на поездку.
Я приехал опять в эту школу, нашел профессора Вульфмана. “Та-ак, – говорит. – А ты мальчик упрямый”. – “Не упрямый, я просто музыку очень люблю”. – “Ну, играй”.
Я сыграл “Сицилиану”. Он спрашивает: “С кем ты это выучил?” Я говорю: “Сам”. – “Сам? Гм. Ну-ка, сыграй еще раз”. Я сыграл. Он помолчал и говорит: “Вот что. Я согласен с тобой заниматься. Сможешь каждое воскресенье приезжать ко мне на дачу в Перловку?”
8
Поездка занимала почти полдня. Было бы проще, если брать прямой билет, но я понимал, что введу родителей в расходы. Поэтому каждое воскресенье я в пять утра ехал из Калинина до Клина, там ждал полчаса и пересаживался на местный поезд, получалось дешевле чуть не вполовину. Мы занимались с Владимиром Мироновичем несколько часов, его жена кормила меня обедом. Она была пианистка, мексиканка, позже они оба уехали в Мексику. Потом я шел на станцию.
Надо было ликвидировать недостатки, на которые Вульфман мне указывал. Я стал заниматься не только перед школой, но и ночью. Иду на кухню, надеваю сурдинку и повторяю упражнение без конца, пока не получится. Причем был такой принцип: если надо сыграть пятьдесят раз, а на сорок девятом не получилось – опять начинаю с первого. Играю еще сорок девять раз и только потом пятидесятый. Опять сбился – опять сначала. Это могло продолжаться бесконечно, пока не выйдет без ошибки. Днем школа, потом домашние задания, и снова скрипка, а в воскресенье – урок у Вульфмана.
Наконец он мне говорит: “Ты вполне уже окреп, поэтому давай-ка официально поступай в школу – сейчас будут вступительные экзамены. Сыграешь концерт Акколаи”. Это концерт еще ученический, но вполне солидный.
В ЦМШ поступают лет в шесть-семь, учатся там одаренные дети, многие серьезные музыканты ее закончили. Мне было четырнадцать. Не помню, как справился с экзаменом, но когда пришел в учебную часть, мне сказали: “Вас в списках нет”. – “Нет?” – “Вот, смотрите сами”.
Тут сзади подошел Владимир Миронович и тихо говорит: “Тебя берут переводом сразу в музыкальное училище при консерватории. Тебя хочет учить Цейтлин”.
9
В семидесятые годы девятнадцатого века Рубинштейн, основатель Санкт-Петербургской консерватории, пригласил в Россию профессором по классу скрипки одного из лучших музыкантов того времени Леопольда Ауэра. Он тут стал Леопольдом Семеновичем, получил звание придворного солиста, потом дирижировал, с огромным успехом проехал с оркестром по Европе, пропагандировал русскую музыку и вообще сыграл большую роль в российской музыкальной жизни. Чайковский посвятил ему “Меланхолическую серенаду” и скрипичный концерт. Пришел к Ауэру домой и сыграл ему этот концерт на фортепиано, а Леопольд Семенович, хотя и был восхищен, говорит: партия скрипки написана неумело, многое надо поправить. Чайковский обиделся и посвящение снял. Ауэр сам отредактировал партию скрипки и через некоторое время так сыграл концерт, что московские слушатели были потрясены, все критики об этом писали. Чайковский, правда, к тому времени уже умер. Но главное – Ауэр создал русскую скрипичную школу. Яша Хейфец, Мирон Полякин, Ефрем Цимбалист, Натан Мильштейн – все эти великие музыканты двадцатого века были его учениками. И среди них – Лев Моисеевич Цейтлин.
Когда Цейтлин закончил курс у Ауэра, он поехал в Берлин. Там еще был жив ауэровский учитель Иоахим. Старик был еще жив. Когда-то он был близким другом Брамса, переложил его “Венгерские танцы” для скрипки, Брамс очень ценил его как музыканта и посвятил Иоахиму скрипичный концерт. Цейтлин хотел получить уроки от учителя своего учителя. Очень вскоре его, двадцатилетнего мальчишку, пригласили концертмейстером в знаменитейший парижский оркестр Lamoureux. Там он подружился с Дебюсси и как концертмейстер играл все премьеры его сочинений и все эти гениальные соло в “Послеполуденном отдыхе фавна”, в “Играх”, в “Море”.