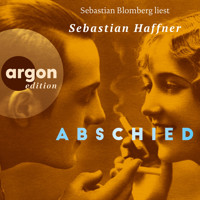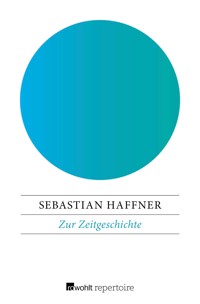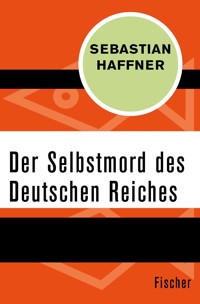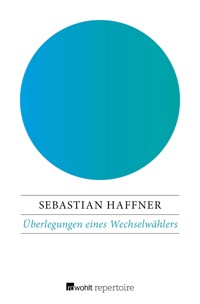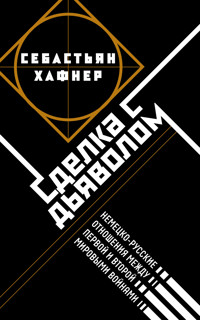
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stein Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Kniga «Sdelka s dyavolom. Nemetsko-russkie otnosheniya v period mezhdu Pervoy i Vtoroy mirovymi voynami» – kompaktnoe i chrezvychayno uvlekatelnoe predstavlenie istorii russkogo i nemetskogo narodov, napolnennoe sobytiyami istoricheskogo masshtaba. S zakhvatyvayushchim dinamizmom i literaturnoy tochnostyu Sebastian Haffner opisyvaet povoroty v otnosheniyakh mezhdu natsiyami, kotorye to voevali drug s drugom, to zaklyuchali mezhdu soboy soyuzy, predstavlyayushchie dlya kazhdoy storony sdelku s dyavolom. Kniga nachinaetsya s podderzhki imperskoy Germaniey bolshevistskoy revolyutsii i zakanchivaetsya paktom Gitlera-Stalina, vtorzheniem v Polshu v 1939 godu i napadeniem Gitlera na Sovetskiy Soyuz v 1941 godu. Original knigi na nemetskom yazyke byl opublikovan v 1968 godu i okhvatyval na to vremya poslednie 50 let nemetsko-russkikh otnosheniy. V 1988 godu rabota Haffnera byla pereizdana i sokrashchena do perioda mezhdu Pervoy i Vtoroy mirovymi voynami, i imenno eta versiya i posluzhil osnovoy dlya nastoyashchego perevoda na russkiy yazyk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Себастьян Хафнер
Сделка с дьяволом
Немецко-русские отношения в период между
Первой и Второй мировыми войнами
Stein Publishing
Гамбург 2025
Sebastian Haffner
Der Teufelspakt
Die deutsch-russischen Beziehungen
vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg
Original title: Der Teufelspakt, by Sebatian Haffner
© 2002 by Deutsche Verlags-Anstalt,
a division of Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München, Germany
Себастьян Хафнер. Сделка с дьяволом. Немецко-русские
отношения в период между Первой и Второй мировыми войнами
Гамбург: Stein Publishing, 2025
Copyright Russian edition © перевод на русский язык,
издание на русском языке, оформление Stein Publishing, 2025
Все права защищены
Немецкое оригинальное издание Себастьяна Хафнера
«Der Teufelspakt: 50 Jahre deutsch-russische Beziehungen»
было первоначально опубликовано в 1968 году в издательстве
Rowohlt-Verlag и в соответствии с названием охватывает
на то время последние 50 лет немецко-русских отношений.
В 1988 году издательство Manesse (сегодня Penguin Random
House) выпустило переработанное издание «Der Teufelspakt.
Die deutsch-russischen Beziehungen vom Ersten zum Zweiten
Weltkrieg», сократив книгу до периода между Первой и Второй
мировыми войнами. Публикуемый перевод на русский язык
был сделан на основе этого переработанного издания.
ISBN 978-3-00-081679-6
Содержание
Вступительное слово
1. Германия и русская революция
2. Брест-Литовск
3. Веревка и повешенный
4. Россия и немецкая революция
5. Рапалло
6. Рейхсвер и Красная армия
7. Гитлер и Сталин
Послесловие
Вступительное слово
Странная жизнь Себастьяна Хафнера
Раймунд Претцель, прославившийся под псевдонимом Себастьян Хафнер, был странным человеком, прожившим долгую, сложную, полную драматических поворотов жизнь, вызывавшим и вызывающим самые противоположные оценки.
Жизнь как будто бы специально швыряла его из одной крайности в другую. Он сам писал, что на его формирование оказало принципиальное влияние обучение в двух школах. В первой его одноклассниками были в основном дети из еврейских семей, придерживавшиеся левых взглядов, во второй — дети военных и будущей нацистской элиты.
Он уехал в тридцатые годы в Великобританию, стал британским гражданином и неоднократно бросал очень жесткие обвинения в адрес — если не всего немецкого народа, то по крайней мере большей его части. А в 1954 году Хафнер вернулся в ФРГ и с головой погрузился в жизнь страны, осмысляя и ее прошлое, и ее настоящее, и регулярно высказываясь так, что его слова вызывали взрыв возмущения и обвинения — то справа, то слева.
Считается, что его книги и статьи с оценкой ситуации в нацистской Германии сильно повлияли на политику Черчилля. Позже Хафнер написал биографию Черчилля.
А в 60-е годы уже немолодой Хафнер будет все больше сближаться с молодежным левым движением, для представителей которого и Черчилль, и западногерманский истеблишмент были явными врагами.
Он писал для «левого» британского Observer и для «правого» германского Die Welt.
В 1967 году он назвал полицейских, жестко разогнавших студенческую демонстрацию и убивших студента, «погромщиками», позже обвинил своего бывшего работодателя — издателя Die Welt Акселя Шпрингера, в том, что его журналисты сеют «семена насилия». И тут же осудил левую интеллигенцию за ее поддержку террористов из группировки Баадер-Майнхоф.
В 1972 году он выступал против введенного в ФРГ «запрета на профессии», направленного прежде всего против коммунистов, а через несколько лет написал шокировавшую многих статью «Руки прочь от Испании», в которой высоко оценивал достижения Франко.
Он считал нацистскую Германию наследницей Германской империи, и имперское наследие было ему настолько ненавистно, что он был готов принять существование ГДР, а после падения Берлинской стены опасался, что объединенная Германия может снова стать жертвой бешеного национализма.
Он утверждал, что не переносит книг, которые нельзя читать перед сном, в его собственных сочинениях не было таких «скучных мелочей», как научные сноски. Один издатель и переводчик с немецкого языка был настолько возмущен выходом книги Хафнера о Гитлере в русском переводе, что посоветовал своим читателям вместо нее читать классическую трехтомную биографию Гитлера, написанную Иоахимом Фестом. А вот Черчилль, говорят, призывал всех членов своего кабинета прочитать книгу Хафнера.
Никита Елисеев, открывший для себя книги Хафнера и занявшийся их переводами для российского читателя, прекрасно понимал, что он не переводит научную (и очень интересную) книгу Иоахима Феста. В одном интервью он сказал, что для него лирический герой Хафнера в книге «Некто Гитлер» — это человек, близкий многим другим литературным персонажам. И перечислил — героев Хемингуэя, персонажей Ишервуда из «Прощай, Берлин», которых мы хорошо знаем по фильму «Кабаре». А еще — Зыбина из «Факультета ненужных вещей» Домбровского и Годунова-Чердынцева из «Дара» Набокова.
Все эти люди, при всем разнообразии их судеб, — интеллигенты, которые пытаются жить своей спокойной частной жизнью на фоне исторических катастроф, обрушивающихся на них и не дающих укрыться в «тихом гнездышке».
Вот этим Хафнер и интересен для нас сегодня — не глубиной своего исторического исследования, на это он и не претендовал. В его книгах перед нами — размышления очень совестливого, может быть, болезненно совестливого человека, который не пытается держаться за те или иные идеологические догмы, а просто хочет «жить не по лжи».
Поэтому он решил покинуть страну, которая затягивала его в кровавый водоворот, пыталась сделать соучастником страшных преступлений. Поэтому в течение многих лет он с болью в сердце размышлял о том, в какой момент своего исторического пути Германия свернула не туда, где была совершена ошибки — или ошибки?
Как Германия его любимых Иоганна-Себастьяна Баха и Моцарта, создавшего Хаффнеровскую симфонию — вот две части, из которых Раймунд Претцель сконструировал свой псевдоним — как эта прекрасная Германия превратилась в Германию Гитлера?
Хафнер писал в разные времена по-разному, отвечая себе на этот вопрос. Он винил наследие Германской империи и покорность большой части немцев, он осознавал, что теоретически и сам мог был легко оказаться на темной стороне силы, если бы только оказался чуть-чуть более податливым. При этом он понимал, что достаточно большая часть немецкого народа не принимает Гитлера, но при этом хранит молчание, и пытался предлагать антигитлеровской коалиции различные способы работы с этими людьми.
Когда в 1968 году, в год пятидесятилетия Брестского мира, заключенного между Германской империей и большевиками, Хафнер написал работу с характерным названием «Сделка с дьяволом» его волновали эти вроде бы давно забытые в Германии события, которые, конечно, оказались заслонены более поздними трагедиями.
А для Хафнера договор кайзеровской, еще имперской Германии и российских революционеров был действительно дьявольским. Мы в России всегда воспринимали Брестский мир как историю о том, на какие, казалось бы, совершенно невозможные компромиссы могли идти большевики ради сохранения своей власти. Хафнер смотрит на эти события со стороны немцев.
«Большинство даже не подозревает, что Германия желала и поддерживала изменения, которые произошли в России в результате большевистской революции, что она вообще сделала эту революцию возможной и приветствовала триумф Ленина как свой собственный».
Сегодня историки, наверное, не согласятся с мыслью о том, что именно Германия сделала возможной российскую революцию — одной только поддержки политического эмигранта Ульянова-Ленина все-таки было бы недостаточно для прихода большевиков к власти, тут действовали более мощные исторические механизмы, чем решения германского МИДа.
Но сама мысль о том, что «для обеих сторон этот союз был сделкой с дьяволом», — очень интересна.
Начав свой рассказ с истории заключения Брестского мира, Хафнер описывает развитие советско-германских отношений — вплоть до заключения пакта Молотова-Риббентропа, уж точно, без сомнения «сделки с дьяволом».
Для него весь этот путь, проделанный двумя странами с 1918 по 1939 годы, — это дорога к войне, подавлению, тирании, и на этом пути Советская России и Германия поддерживали друг друга.
Мы можем сегодня не соглашаться с Себастьяном Хафнером в каких-то деталях и оценках, но сама идея о том, что с дьяволом нельзя ни мириться, ни поддерживать его даже в своих собственных интересах, что дьяволу можно только противостоять, — наверное, актуальна и сегодня.
Тамара Эйдельман
История немецко-русских отношений в период между Первой и Второй мировыми войнами увлекательнее любого романа. Вряд ли найдется еще один пример подобных доверительных связей и смертельных столкновений между двумя народами. В этой немецко-русской эпопее нашли отражение практически все возможные варианты взаимоотношений, включая самые экстремальные. Тем удивительней, что в сознании населения Западной Германии отсутствует более или менее ясное понимание тех страшных событий, в которых активно или вынужденно принимало участие старшее поколение и которые продолжают определять судьбу и более молодых. Конечно, существует некое расплывчатое представление о том, что когда-то была старая Россия, жутковатый сосед, странный, непредсказуемый, но в то же время великодушный и добросердечный, а порой и спасительный. Большинство даже не подозревает, что Германия желала и поддерживала изменения, которые произошли в России в результате большевистской революции, что она вообще сделала эту революцию возможной и приветствовала триумф Ленина как свой собственный. Именно с альянса между Германией и революцией большевиков все и началось. Для обеих сторон этот союз был сделкой с дьяволом. И именно начиная с нее следует рассматривать масштабную, вытесненную из сознания историю немецко-русских коллизий.
1. Германия и русская революция
Все знают, что Октябрьская революция была творением Ленина, и почти все знают, что за полгода до нее, в апреле 1917 года, Ленин из швейцарской ссылки возвращался в Россию через территорию Германии — в разгар войны между Германией и Россией.
Но мало кому известно, что эта поездка состоялась по инициативе немцев, и что высшие германские инстанции — рейхсканцлер, верховное главнокомандование, министерство иностранных дел, несколько немецких послов — совместно приняли решение «отправить» Ленина в Россию. Причины этого странного решения по-прежнему во многом покрыты мраком.
Как ультраконсервативным государственным деятелям кайзеровской Германии пришла в голову идея связаться и даже фактически объединиться с самым радикальным революционером того времени? Как они вообще «открыли» Ленина? Ведь это было самое настоящее открытие.
В марте 1917 года Ленин вовсе не был той всемирной величиной, какой он станет полгода спустя. Для европейских властей он был сомнительной личностью, маргиналом даже среди тех изгнанных и преследуемых, кто выжил после потерпевшей поражение революции 1905 года. Некоторое время до этой революции он уже был эмигрантом, а после ее разгрома стал им окончательно; непосредственно перед Первой мировой жил в австрийском тогда Кракове, где с наступлением войны как подданный вражеского государства был арестован. По ходатайству австрийского социал-демократа Виктора Адлера, который сказал министру внутренних дел барону фон Хайнольду: «Этот человек еще больший враг царя, чем Ваше превосходительство», Ленина отпустили с условием, что он незамедлительно покинет страну. С большими усилиями ему удалось попасть в Швейцарию: при въезде от него потребовали 100 франков залогового взноса, которых у него не было, и в конце концов за него поручился один швейцарский социал-демократ. Там Ленин жил более чем скромной жизнью эмигранта, не привлекая ничьего внимания, кроме иммиграционной полиции. Его цюрихская квартира в заднем дворе выходила на колбасную фабрику; из-за запаха Ленин с женой вынуждены были жить с закрытыми окнами. Тем охотнее он все свое время проводил в публичной библиотеке, где этот невысокий лысый русский считался постоянным посетителем. Там он зачитывался газетами, писал статьи в сомнительные социалистические листки и сочинял книги и брошюры, которые с тех пор стали знаменитыми во всем мире, но тогда, несмотря на старания друзей в России, ему не удавалось издать их даже у малозначительных издателей.
Осенью 1916 года Ленин был в отчаянном положении. Он писал своему партийному товарищу Шляпникову, который находился на свободе в Петербурге и там пытался пристроить сочинения Ленина: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем». Шляпников должен «вытащить силком деньги» у неких издателей. «Если не наладить этого, то я, ей-ей, не продержусь, это вполне серьезно, вполне, вполне».
Полгода спустя с этим полуголодным русским эмигрантом вели переговоры высшие инстанции Германской империи, причем он общался с ними на равных. Еще через полгода Ленин изменит ход мировой истории. Но как вообще немцы вышли на Ленина?
Первый раз имя Ленина упоминается в немецких документах 30 ноября 1914 года. В России были арестованы некоторые леворадикальные депутаты Государственной думы, и один русский информатор сообщил германскому министерству иностранных дел, что эти депутаты — сторонники некоего господина Ленина, который в настоящий момент живет в Швейцарии. Этот информатор по имени Александр Кескюла, молодой эстонец немецкого происхождения, который сам принимал некоторое участие в левом движении, по просьбе немцев рассказал подробнее о Ленине, и то, что он описывал, звучало чрезвычайно интересно. При ближайшем рассмотрении русский эмигрант Ленин казался не такой уж незначительной фигурой в этих странных кругах.
Немцы узнали, что Ленин на протяжении чуть более десяти лет возглавляет радикальную группу русских социал-демократов, так называемых большевиков, что он держит их железной хваткой и готовит к грядущей революции; что он ведет непримиримую войну с русскими умеренными социал-демократами — меньшевиками; но прежде всего — и здесь все становится особенно интересным — он с самого начала твердо и бескомпромиссно отвергал единый патриотический фронт, который в начале войны поддержали меньшевики и некоторые из сторонников самого Ленина, и целиком и полностью выступил за «поражение царизма в данной войне».
Кескюла перевел статьи Ленина, которые вызвали в германских министерствах некоторое недоумение, но были прочитаны с большим интересом. Этот человек развивал неслыханные идеи и защищал их с неукротимой логикой и ужасающей прагматичностью: по Ленину, необходимо поднять народы против своих собственных правительств, убедить повернуть оружие против них и превратить мировую войну в мировую гражданскую войну.
И этот человек действительно обладает влиянием в России? Там действительно существует партия, которая за ним следует? Как интересно! Это нужно взять на заметку, этот человек может быть очень полезен. Так был открыт Ленин.
Уже вскоре после начала войны германское руководство приняло решение «революционизировать» Россию. Прежде всего немцы имели в виду народы, чуждые Российской империи — поляков, финнов, народы Балтии, — которых они хотели настроить против России и перетянуть из русской сферы влияния в немецкую. Но в Германии помнили и о том, что в России без малого десять лет назад уже произошла одна революция, что империя царей в течение года стояла на грани гибели. Ведь что-то должно было остаться с тех времен… Германия, так сказать, ворошила пепел, чтобы найти искры того огня — и в конце концов нашла Ленина и его большевиков.
В сентябре 1915 года в Германском министерстве иностранных дел было принято окончательное решение: если «революционизировать» Россию, расшатывать царскую империю изнутри, то большевики — тот самый рычаг, который необходимо привести в действие. Все остальные бывшие революционеры стали теперь, как и социал-демократы в Германии, военными патриотами; некоторые все еще требовали свержения царя, но только на том основании, что он плохо ведет войну. Для реализации целей Германии этого было явно недостаточно. Одни лишь большевики были категорически против войны, они были готовы осуществить революцию даже в военное время, более того, — как там писал этот Ленин? — превратить войну в гражданскую. Только большевиков можно было использовать в качестве союзников; если, конечно, от них вообще может быть какой-нибудь толк, что пока представлялось сомнительным.
Ну хорошо. Если Германия собиралась «революционизировать» царскую Россию, то для этого, очевидно, нужно заключить альянс с самой радикальной фракцией русских революционеров — с большевиками. Но теперь необходимо понять само это намерение. Оно никоим образом не было ни логичным, ни само собой разумеющимся, если исходить только из факта, что Германия и Россия находились в состоянии войны. В 1914 году эта идея была еще совершенно невероятной.
Ее невероятность становится очевидной, если представить, что царская Россия вела бы точно такую же игру с Германией и после 1914 года стремилась бы к альянсу с немецкой революцией. Ведь и в Германии существовали радикальные революционно-пораженческие левые силы. У Германии был свой Либкнехт, так же как у России — свой Ленин. Но никакого альянса русского царя с Союзом Спартака никогда не было; не было даже попытки, даже мысли в этом направлении. Это была бы совершенно абсурдная идея. Но разве альянс германского кайзера с большевиками был не таким же абсурдным?
Этот союз вовсе не означал, что Германия применяла бы в качестве оружия идеологические противоречия, что она на остриях штыков экспортировала бы собственную систему, как это порой случалось раньше — например, во время религиозных войн или кампаний французской революционной армии. Германская империя задействовала в качестве своего союзника против царской империи ту силу, которая была и ее собственным смертельным врагом, перед лицом которого Германия и Россия, даже находясь в состоянии войны, были объединены общими интересами и идеологическим родством.
Сегодня мы привыкли к революциям как средству ведения войны; более того, существует теория, согласно которой управляемые революции в наше время практически заменили собой войну как метод разрешения международных конфликтов. Но в 1914 году война охватила однородное на тот момент сообщество европейских государств, еще очень далеких от таких идей. Европейские державы того времени составляли сложившийся веками аристократический эксклюзивный клуб, члены которого, даже ведя войны, как правило, сохраняли определенную солидарность друг с другом. Война была, так сказать, одним из правил этого клуба. Время от времени страны начинали войну, мерялись силами друг с другом, и в зависимости от результата снова заключали мир: так на протяжении столетий было принято в Европе. Но раз и навсегда просто ликвидировать одного из своих партнеров по войне и миру — эта идея еще никому не приходила в голову.
Причем именно у этих трех императорских дворов — Санкт-Петербурга, Вены и Берлина — было особенно много общего: например, в их отношении к западным демократиям, и уж тем более в отношении к этим немыслимым, кошмарным большевикам! В частности, существовали тесные семейные связи между монархиями, и было бы логично при благоприятной возможности использовать их для заключения сепаратного мира, как несколько наивно время от времени предлагал немецкий кронпринц. В своем письме великому герцогу Гессенскому, зятю царя, он писал в феврале 1915 года: «Я считаю, что совершенно необходимо заключить с Россией сепаратный мир. Во-первых, слишком глупо, что мы друг друга рвем на куски только для того, чтобы Англия ловила рыбку в мутной воде, и потом мы должны собрать здесь все наши войска, чтобы разобраться с французами… Не мог бы Ты связаться с Ники и посоветовать ему мирно договориться с нами? Как я слышал, в России очень желают мира, ему только надо бы убрать эту скотину Николая Николаевича 1…»
Наивно, конечно, но и весьма логично — намного логичнее, чем объединяться с будущими убийцами «Ники». Самое позднее к концу первого года войны стало понятно, что чисто военное решение войны на Востоке также невозможно, как и на Западе. Немецкие армии показали однозначное превосходство над русскими войсками, но не настолько существенное, чтобы подчинить себе русские территории. Восточный фронт с конца 1915 года был заморожен по эту сторону польской и прибалтийской границ России — почти так же заморожен, как и Западный фронт, и Германия была кровно заинтересована в том, чтобы избавиться от этого Восточного фронта.