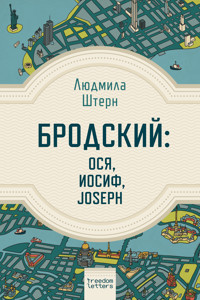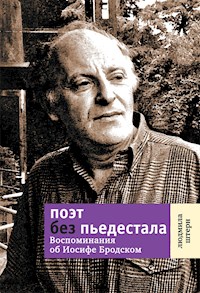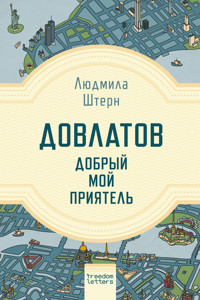
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Russisch
Это одна из самых честных книг о большом русском писателе Сергее Довлатове, родившемся в 1941 году в Уфе и скончавшемся в 1990 году в Нью-Йорке. Его подруга и биограф Людмила Штерн рассказывает о комических и трагических эпизодах жизни своего героя, о литераторах, ставших символами поколения: Бродском, Рейне, Набокове, Хемингуэе, Ефимове, Гордине… Книга будет полезна всем интересующимся литературой ХХ века и историей эмиграции.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
№ 25
Людмила Штерн
Довлатов —добрый мой приятель
Freedom LettersБостон2024
Содержание
Предисловие
Глава первая. У Пяти углов
Глава вторая. Эта неаполитанская наружность
Глава третья. Тычки и задоринки
Глава четвертая. Литературные будни
Глава пятая. Кавказские мотивы
Глава шестая. Алкогольная сюита
Глава седьмая. Роковые женщины в русской литературе
Глава восьмая. Отец и дети
Глава девятая. «Без права на женщину»
Глава десятая. Сентиментальное прощание
Глава одиннадцатая. Путешествие книжки
Глава двенадцатая. Наш эмигрантский старт
Глава тринадцатая. Довлатов эмигрирует
Глава четырнадцатая. Нью-Йорк, Нью-Йорк
Глава пятнадцатая. Тень падающих снежинок
Глава шестнадцатая. «Новый американец»
Глава семнадцатая. Как стать писателем
Глава восемнадцатая. Не гений, но злодейство
Глава девятнадцатая. Дорога в Голливуд
Глава двадцатая. MасDowell Colony
Глава двадцать первая. «У Бога добавки не просят»
Пометки
Cover
Оглавление
Дане и Вике, моим англоязычным внукам, с надеждой, что они прочтут эту русскую книгу
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!
Когда бы грек увидел наши игры…
Осип Мандельштам
Людмила Штерн опасна, как всякий повзрослевший романтик…
Сергей Довлатов в письме Игорю Ефимову
Я глубоко признательна семье, близким и друзьям Сергея Довлатова, а также моим друзьям за неоценимую помощь, которую они оказали мне при написании этих воспоминаний.
В процессе работы я пользовалась содействием и неизменной поддержкой Елены и Кати Довлатовых, а также письмами и фотографиями из их личного архива. Я им обеим крайне благодарна за дружескую помощь в моей работе. Но следует признаться, что первое издание этой книги им не понравилось, и они объявили его «контрафактным». С тех пор нашей многолетней дружбе пришел конец.
Мне также любезно предоставили архивные материалы Борис Шварцман, Игорь Ефимов, Тамара Зибунова и Саша Довлатова, Ася Пекуровская, Алевтина Добрыш и Нина Аловерт.
Кроме того, я хочу поблагодарить Якова Гордина и, в особенности, моего мужа Виктора Штерна за советы и конструктивные замечания, которые они сделали в процессе работы над рукописью.
Предисловие
Как-то после лекции, которую я прочла в университете во Флоренции, один студент спросил меня: «Чья судьба вам кажется наиболее трагической: Набокова, Бродского или Довлатова? И кто из них больше всех страдал?»
Этот детский вопрос застал меня врасплох, и я забормотала невнятно: с одной стороны, с другой стороны…
Не хотелось разочаровывать юношу неприятной правдой, но, в философском смысле, любая жизнь трагична. Достаточно вспомнить слова Бродского: «Вы заметили, чем это все кончается?»
Вероятно, юноша имел в виду всего лишь трагичность жизни поэта или писателя, вынужденного жить и работать вне своего отечества и своего языка.
— Это смотря какого отечества, — поспешил высказаться другой студент. — Что могло быть страшнее судьбы писателя или поэта в своем отечестве, в России? Вспомните судьбу Мандельштама, Гумилева, Бабеля, Цветаевой, Маяковского.
Трагичность жизни может вообще не зависеть от внешних обстоятельств, которые складываются для данного индивидуума вполне благополучно. Но если меня судьба когда-нибудь еще сведет с тем студентом, я отвечу ему, что упомянутый им список «трагических» эмигрантов, наверно, следует начать с его односельчанина — божественного Данте, вынужденного бежать из любимой Флоренции, преследуемого, но не раскаявшегося, так и не вернувшегося на родину, и не узнавшего, что через четыреста лет после его смерти он будет считаться гордостью Флоренции и одним из величайших поэтов западной цивилизации.
Как и Данте, ни один из упомянутых тем студентом наших соотечественников-эмигрантов тоже не вернулся на родину. Владимир Набоков категорически отказывался даже рассматривать такую возможность. «Страны, которую я покинул, больше не существует», — писал он своей сестре Елене Владимировне. Однако писатель вовсе не был равнодушен к покинутой отчизне и, более того, пребывал в абсолютной уверенности, что его произведения дойдут до российского читателя и останутся важнейшей вехой в русской литературе.
В 1959 году он писал:
Но как забавно, что в конце абзаца,
Корректору и веку вопреки,
Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.
На вопросы, тосковал ли Набоков по России, мучила ли его ностальгия, отвечают многие его стихи. Например, «К России», написанное в Париже в 1939 году:
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, — мой язык.
Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,
дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!
Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, —
поздно, поздно! — никто не ответит,
и душа никому не простит.
Не забудем, что детство и отрочество Набоков прожил счастливо в богатой, родовитой семье, принадлежавшей к сливкам петербургского общества. Его Россия, описанная с такой любовью в «Других берегах», пошла в одночасье ко дну, как «Титаник». И он тосковал по своей России и по своему безоблачному детству. У него были обычные для эмигранта трудности, облегченные, однако, прекрасным знанием языков и первоклассным образованием. Кроме того, рядом с ним всю жизнь была любимая жена, друг и помощница Вера Евсеевна. А после опубликования «Лолиты», принесшей ему, наконец, всемирную славу, Набоков жил в полнейшем материальном комфорте.
…И все-таки трагична ли судьба поэта или писателя, живущего в изгнании, вдали от своих корней? Однозначного, как сейчас принято выражаться, ответа нет.
Судьбу Бродского, несмотря на выпавшие на его долю испытания, трагичной я бы назвать не решилась. Главным образом благодаря его характеру. Бродский попытался Россию «преодолеть». И ему это, кажется, удалось. Он много путешествовал, жил в Италии, Англии, Франции, Скандинавии, побывал в Мексике и всюду имел любящих и преданных ему друзей. Он искренне считал себя гражданином мира. Его поэтическая звезда оказалась на редкость счастливой: он успел вкусить мировую славу, насладился уникальными почестями, очень редко выпадающими на долю писателей и поэтов при жизни. В возрасте пятидесяти лет он женился на молодой красивой женщине. Она родила ему дочь Анну, которую он обожал. Трагедией стала его ранняя смерть.
Трагичной ли была жизнь Довлатова? Думаю, что да. Сергей каждой клеткой был связан с Россией. Европой он не интересовался, Америку знал только эмигрантскую и добровольно не выходил за пределы так называемого русского гетто. Он не принял эту страну, хотя заочно любил ее со времен ранней юности, и хотя именно Америка первая оценила масштаб его литературного дарования. Мало того, почти все, что он написал, издано на английском языке. Десять публикаций в журнале «Нью-Йоркер», которые осчастливили бы любого американского прозаика, были Довлатову, разумеется, лестны и приятны, но не более того.
Вот, что он писал о себе: «Я — этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории. При этом, как выяснилось, я гораздо более русский, точнее — российский человек, чем мне казалось, я абсолютно не способен меняться и приспосабливаться, и, вообще, не дай тебе бог узнать, что такое жить в чужой стране, пусть даже такой сытой, румяной и замечательной…» [1].
Поэтому я посмею не согласиться с Петром Вайлем, который утверждал: «Что до чужбины, то Сергею в Америке нравилось. Плюс к его преданной любви к американской литературе, плюс к тому, что только здесь он утвердился, как писатель… Довлатову тут нравилось по-настоящему…» [2].
К сожалению, Америка ему не нравилась. Точнее, он ее не знал. Настоящей трагедией для Довлатова была глухая стена, которую советская власть воздвигла между ним и его читателями в России. До своего отъезда в эмиграцию он опубликовал лишь несколько работ, в том числе повесть в журнале «Юность», сам считая это произведение ничтожным. То есть, в отличие от Бродского, он пошел на компромисс. Будучи еще в Ленинграде, Иосиф отказался от предложенной ему публикации в той же «Юности», когда в редакции пытались то ли урезать, то ли отредактировать его стихи.
Довлатов страстно мечтал о литературном признании на родине, и по трагической иронии судьбы не дождался его. При жизни он довольствовался славой на Брайтон-Бич, и в России был известен в основном как журналист радиостанции Свобода. Он ушел на пороге славы, не зная, что станет любимейшим прозаиком миллионов соотечественников. Не знал, но чувствовал. В 1984 году, за шесть лет до своей кончины, в интервью американской журналистке Довлатов сказал: «Моя предполагаемая [русская — Л. Ш.] аудитория менее изысканная и тонкая, чем, например, у Бродского, зато я могу утешать себя надеждой, что она — более массовая».
Его надежды оправдались. За годы, прошедшие со дня его кончины, его слава разрослась невообразимо. Произведения Довлатова издаются и переиздаются огромными тиражами. Его творчеству посвящают международные конференции, о нем ставятся спектакли. Количество книг о Довлатове, опубликованных за столь короткий срок после его смерти почти беспрецедентно в русской литературе (если не считать книг об Иосифе Бродском).
Почему невинный вопрос флорентийского студента так задел меня и вовлек в попытку сравнения абсолютно несравнимых по творческим параметрам Набокова, Бродского и Довлатова?
Наверное, потому что, «по жизни» между ними было много общего, особенно между Довлатовым и Бродским. Они — погодки, ленинградцы, эмигранты, оба жили и умерли в Нью-Йорке. Оба ушли от нас непростительно рано, и ни тот, ни другой не вернулся домой. Вернулись их произведения, и один при жизни, а другой посмертно стали идолами и кумирами любителей русской словесности. Впрочем, слава Бродского и популярность Довлатова имеют совершенно разные корни.
Бродский, хоть многие и считают его первым поэтом России конца ХХ столетия, в силу своей элитарности и сложности не стал народным поэтом, как по той же причине не стали народными, массовыми поэтами ни Мандельштам, ни Пастернак, ни Цветаева. А популярность Сергея Довлатова среди читающей России на стыке двух веков сравнима разве что с популярностью Владимира Высоцкого в 1960–1970-х годах. Причины этой невероятной популярности сложны и многогранны, и раскрытие их еще ждет своих исследователей.
Разумеется, «виноват» в этом и образ самого автора, умело спаянный с образом его героя: несчастливого, непрактичного, щедрого, великодушного, полупьяного, слегка циничного и романтичного, необычайно созвучного эпохе, стране и ее обитателям.
Я много раз слышала стереотипную фразу о Довлатове: «Довлатов — наш человек, он понял самую душу народа!» Вероятно, обладая волшебной отмычкой, он умудрился открыть дверцу к загадочной русской душе. Кстати, именно этим талантом, а не собиновским тенором и не армстронговским хрипом был так дорог всем нам Владимир Высоцкий.
В последние 10–15 лет мемуары, наравне с детективами, стали чуть ли не самым популярным литературным жанром. В океане мемуарной литературы, разлившейся по книжным магазинам, плавают, словно радиоактивные мутанты, ее неузнаваемые герои. Часто в такой литературе правды кот наплакал. Жаль, что кто-то когда-то по таким воспоминаниям будет изучать эпоху и писать диссертации.
Опубликованные мемуары о Сергее Довлатове — восторженные, разоблачительные, мстительные, ядовитые — убедительный тому пример. Одно созвездие названий чего стоит! «Довлатов вверх ногами», «Довлатов и окрестности», «Мне скучно без Довлатова», «Сквозь джунгли безумной жизни», «Когда случилось петь С. Д. и мне», «Эпистолярный роман Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым». Некоторые из этих книг вызвали извержение нешуточных страстей. Скрещивались шпаги, расторгались браки, обрывались многолетние дружбы, дошло и до суда.
Понятно, что после такого цунами «Довлатиады» не так уж просто написать еще одни воспоминания о Сергее Довлатове. Но я рискнула, и, прежде чем начать, решила посоветоваться с опытным мемуаристом.
— Ты обратила внимание, — спросил он, — что зачастую является главной задачей мемуаристов? Наградить героя букетом разнообразных пороков, чтобы он выглядел глупее, злобнее, корыстнее, завистливее автора мемуаров. Достигается это разными методами: или при помощи кривых зеркал, едва уловимым искажением фактов, или бреющим полетом авторской фантазии. А главное — тоном.
— У меня и в мыслях нет очернять Довлатова, — возразила я.
— Ну и получится скука адова, леденец в липкой обложке.
— Я постараюсь написать правду.
— Тогда убери себя из мемуаров.
— Как это — убери?
Это можно, если вместо мемуаров написать биографию. Биографический жанр не требует ни дружбы с героем, ни вражды, ни романа, ни делового сотрудничества, ни просто личного знакомства. Например, задумай я написать биографию Джонатана Свифта, меня там было бы не видно и не слышно. Но в мемуарах присутствие автора неизбежно. И, действительно, их тоном мемуарист выдает себя с головой, то есть делается прозрачным, как богемский хрусталь. Как бы ни были льстивы слова, по тону легко определить, любил ли автор своего героя, ненавидел ли, завидовал ли ему, сочувствовал ли.
— Бог в помощь, — раздражился знакомый мемуарист. Видно, я ему надоела…
Я дружила с Сергеем Довлатовым двадцать три года, и в этих воспоминаниях попробую, как говорят американцы, дать его close up, то есть нарисовать его портрет с близкого расстояния. Сложность задачи заключается в том, что Довлатов был необыкновенно разнообразен. Многоликий Янус — плоская тарелка по сравнению с нашим героем. Если бы три-четыре его ипостаси встретились в одном пространстве, они, возможно, друг друга бы не узнали. Я также собираюсь вспомнить общих знакомых и друзей. И, конечно, не избежать рассказа о наших с Сергеем нетривиальных отношениях. Таким образом, мне придется в избытке появляться на страницах этой книги. Хотелось бы избежать упреков и обвинений типа: «Тоже мне, нашлась литературная гувернантка Довлатова». Конечно, не я одна стояла у его литературной колыбели. Довлатов часто вспоминал своих литературных наставников. И возможно, они еще напишут свои воспоминания. Я же ограничусь своими.
Закончить свое предисловие мне хочется кратким упоминанием неких, возможно несущественных, но ощутимых различий между Первым Поэтом и Первыми Прозаиками:
1. Бродский писал трагические стихи высочайшего духовного накала, но при этом был человеком веселым. Довлатов писал очень смешную, абсурдистскую прозу, но нравом обладал пессимистическим. Набоков мог писать что угодно и как угодно — он владел языками как Паганини скрипкой. Но с каждым годом в его произведениях эмоций становилось все меньше, а ребусов все больше.
2. Набоков и Бродский в свою литературную кухню никого не пускали и терпеть не могли ни писать, ни рассказывать о своих делах. Довлатов щедро делился с читателями своими хождениями по мукам, сделав из них большую литературу.
3. С Набоковым я, к сожалению, не была знакома и не знаю, искрометны ли были его устные рассказы и шутки. Бродский, человек насмешливый и остроумный, щедро разбрасывал свои mots, никогда к ним не возвращаясь. Ироничный Довлатов из придуманных, услышанных и подслушанных острот, реприз, реплик и анекдотов умудрился создать новый литературный жанр.
4. Набоков владел четырьмя языками и с равным блеском писал по-русски и по-английски. Бродский владел двумя. Стихи предпочитал писать по-русски, а эссе и прозу — по-английски. Довлатов владел только русским, но владел им виртуозно.
5. И главное: Владимир Набоков любил бабочек, Иосиф Бродский — кошек, а Сергей Довлатов — собак.
Глава перваяУ Пяти углов
Название этой главы ностальгическое. Во-первых, почти что вышедшая в Таллине книга Довлатова называлась «Пять углов». На нее он возлагал все надежды на литературную жизнь в Советском Союзе, но набор был рассыпан по указанию КГБ. Во-вторых, Пять углов в Петербурге — это сцена, на которой разыгрывались спектакли нашего детства, отрочества и юности.
Я родилась на улице Достоевского в доме № 32, в нескольких минутах ходьбы от Пяти углов, училась в 320-й школе на улице Правды на полпути между улицей Достоевского и Пятью углами. Мои школьные друзья жили на Загородном, на Разъезжей, на Социалистической, на Малой Московской, на улице Рубинштейна и на Марата.
На улице Рубинштейна в доме № 23, кроме Сережи Довлатова, с которым я познакомилась, миновав и детство, и отрочество, и юность, жил зубной врач, доктор Каушанский, к которому меня водила мама, под мои завыванья, чтоб этот дом провалился сквозь землю. Какая удача, что мои пожелания не исполнились.
На улице Марата, кроме подруг, жил в мои школьные годы наш идол и кумир, актер ТЮЗа Владимир Сошальский. В детстве спектакли с его участием — «Аттестат зрелости» и «Ромео и Джульетта» — я видела раз по тридцать. В «Аттестате» он играл десятиклассника Валентина Листовского, заносчивого, оторвавшегося от коллектива отличника, которого в конце третьего акта судьба и школьная общественность больно клюнули в темечко. Но в первом и втором актах, в ярко-синей рубашке, которую ленинградцы называли «москвичка», а москвичи — «ковбойка», высокий, с каштановой шевелюрой и томными глазами, он покорял одноклассниц на сцене и девиц в зрительном зале. Одна из героинь спектакля написала ему письмо, которое я более полвека помню наизусть (лучше бы Некрасова так запоминала). Негодяй Листовский, разумеется, над ней посмеялся. Итак,
Это письмо никому. Адреса нет на конверте.
Это письмо тому, кого не найду до смерти.
Может быть, мимо пройду, может, промчусь как ветер,
Счастье свое не найду. Много ли счастья на свете?
Сошальского я умудрялась видеть чаще других, менее удачливых поклонниц. У меня был Джек, собака с омерзительным характером, но невообразимой красоты: помесь шпица с сибирской лайкой. И я три раза в день его выгуливала, и не где попало, а на улице Марата, вдоль дома, где жил кумир. Он мог невзначай выйти из подъезда или вернуться домой, а тут как раз я совершенно случайно прогуливаю Джека. Так что он даже иногда кивал на мое задыхающееся от волнения «здрасьте». Девчонки же, не обладавшие собакой, писали ему любовные стихи и подсовывали под дверь, благо в те времена подъезды не запирались.
Помню много шедевров, но не желая мучить читателей, возможно, не влюбленных в Сошальского, процитирую скромное четверостишие одной подающей надежды поэтессы:
Счастливая Петрова Шура,
Вчера вы ей сказали «дура».
О, если б я могла от вас
Услышать это хоть бы раз.
Однажды будущая поэтесса, измученная безответной страстью, полезла к актеру в окно по водосточной трубе (на третий этаж, прошу заметить). Почти долезши до подоконника, она почувствовала головокружение и закричала. Окно было открыто, и, к счастью, Сошальский был дома, но, к несчастью, брился в этот момент опасной бритвой. У него дрогнула рука, он полоснул себя по горлу, но подлетел к окну и втащил полуобморочную рабу любви в комнату.
Картина: кумир с окровавленной рожей держит на руках бесчувственную девицу, в дверях влетевшие на крик соседи — квартира, естественно, коммунальная — и счастливый для актера финал — получение отдельной квартиры вдали от обезумевших поклонниц. Интересно, не забыл ли Владимир Борисович этот эпизод полувековой давности?
Почему я вдруг вспомнила актера Сошальского? Наверно потому, что когда я впервые увидела Сергея Довлатова, мне показалось, что они похожи. При ближайшем рассмотрении оказалось — ничего общего.
Я прожила в Питере у Пяти углов лучшие годы своей жизни, в конце пятидесятых переехала в переулок Пирогова, около Исаакиевского собора, а в середине семидесятых оказалась в Америке…
Через пятнадцать лет после отъезда в эмиграцию, в 1990 году, я впервые вернулась в родной город, пришла к Пяти углам, и память начала услужливо рисовать передо мной картины канувшей в Лету молодости…
Первый маршрут — улица Правды, теперь, наверное, опять Кабинетская? В доме № 20 по этой улице я провела десять лет. Это 320-я школа, в прошлом прославленная гимназия Mарии Стоюниной, которую закончила в 1917 году моя мама. Там же, пятью годами позже, училась Леночка Набокова, младшая сестра писателя, с которой мы полвека спустя очень подружились. А ее старший брат Володя несколько лет занимался почти напротив — в Первой гимназии — в наше время это была 321-я школа, — пока не перешел в Тенишевское училище.
От нашей школы никаких следов. Обшарпанное жилое здание, даже знаменитый козырек над резными дверьми отвалился. В одном квартале от школы — Дом культуры хлебопекарной промышленности по прозвищу, кажется, «Хлеболепешка». Там после войны крутили трофейные фильмы. Многие из них были не немецкими, а американскими, будто мы воевали с Америкой. Помню Марику Рёкк в «Девушке моей мечты», Дину Дурбин в «Сестре его дворецкого» и «Ста мужчинах и одной девушке», Франческу Гааль в «Петере» и «Маленькой маме». Весь этот хлам внушил мне абсолютную уверенность в том, что голливудская продукция является высшим проявлением человеческого гения.
Рядом с «Хлеболепешкой», в доме № 12 на пятом этаже, жили гораздо позже моей школьной поры Толя Найман с Эрой Коробовой. Найман начинал свою литературную жизнь изящными и благородными стихами. На улице Правды он жил недолго, переехал в Москву к новой жене, моей лучшей подруге Гале Наринской. А вот Эра, ничуть не изменившаяся за последние много-много лет, живет все там же и, не задыхаясь, взлетает к себе на верхотуру.
Улица Рубинштейна, дом № 23. Сейчас из ворот этого желтого дома появится Сережа Довлатов в коричневом пальто нараспашку, в шлепанцах на босу ногу, с ядовитой сигаретой «Прима» в зубах. Рядом семенит фокстерьер Глаша, метко названная Сережей березовой чурочкой. Когда Сережа куда-нибудь спешит, он несет Глашу подмышкой. Ему — 26 лет, он худ, небрит и ослепителен.
— Я достоин сострадания, — говорит он вместо приветствия. — Мать меня презирает, а Лена уже три дня не здоровается. Обе правы: я выбросил в окно пишущую машинку…
Еще квартал по той же стороне. Из подъезда выходит губастый Женя Рейн в полувоенном френче а-ля Мао Цзедун, с тремя авоськами пустых бутылок и сталкивается нос к носу с Яшей Гординым. Яша живет на Малой Московской, в трех минутах ходьбы. В данный момент Яша направлялся к своему младшему брату Мише, жившему с Рейном в одной квартире. Встретившись с Рейном, Яша меняет свои планы, забирает из Жениных рук одну авоську, и они вместе идут освобождаться от бутылочной ноши. Я не слышу, о чем они говорят, но полагаю, что обсуждается вчерашний поэтический вечер у Рейна. Читали стихи: сам хозяин, Гордин, Бродский, Найман, московская гостья Наташа Горбаневская (в августе 1968 года она, в числе семерых человек, выйдет на Красную площадь протестовать против вторжения советских войск в Чехословакию).
Комната Рейна набита поэтами и слушателями, лица плавают в сигаретном дыму. Художник Миша Беломлинский притулился на стуле возле шкафа и рисует в блокноте шаржи. Мне их прекрасно видно, потому что кто-то посадил меня на шкаф. Вот Миша набросал портрет моего мужа Вити, и мне не нравится, что он нарисовал ему нос уточкой и утвердил очки на самом его кончике. В знак протеста я тоненькой струйкой лью Мише вино за воротник рубашки.
— Лей белое вино, а не красное, мерзавка, — кричит его жена Вика. — Красное не отстирывается!
На дворе, кажется, 1967 год.
Двадцать три года спустя я брожу взад-вперед между Сережиным и Жениным домами, заглядываю во дворы, смотрю в слепые глазницы окон, в наглухо закрытые для меня подъезды. Сколько в этих домах прочитано стихов и прозы! Сколько выпито водки, рассказано сплетен! Сколько раскрыто секретов и тайн! Сколько дано и нарушено клятв!
На память приходят посвященные Сереже строки Рейна:
Неужели выходили оба окнами на Щербаков переулок,
У Пяти углов назначали утреннее свиданье?
Что осталось от этих прогулок?
Ничего не успел я тебе сказать на прощанье.
Вот теперь говорю: Ты был самым лучшим
в этом деле, где ставят слово за словом,
самым яростным, въедливым, невезучим,
и на все до конца навсегда готовым.
…Возвращаюсь на Разъезжую. Полвека назад, заглянув во двор дома № 13, можно было увидеть в компании, играющей в волейбол, маленького, прыгучего Анри Волохонского. Тогда он еще не носил своего знаменитого бархатного берета. Зайдя эдак лет 10–12 спустя в соседний подъезд, мы оказались бы в гостях у Игоря Ефимова. С его женой Мариной Рачко мы учились в одной 320-й школе.
Итак, Разъезжая, дом № 13, большая ефимовская коммуналка. Коридор украшен настенными велосипедами и корытом, на кухне соседи, как мне казалось, круглосуточно жарили котлеты. Перепадало и ефимовским гостям.
Марининой бабушке Олимпиаде Николаевне принадлежит бессмертная фраза, до сих пор являющаяся неоспоримым аргументом в любом философском споре. Заходит ли речь о политике, театре, кино, книгах, прошлогодней погоде или способах жарки котлет, мы цитируем покойную Олимпиаду Николаевну, отсылавшую нас к последней, высшей инстанции: «ВЫЙДИ НА КУХНЮ, СПРОСИ КОГО ХОЧЕШЬ».
В этой коммунальной квартире, на дне рождения Марины, 15 ноября 1967 года, я впервые увидела Сергея Довлатова.
Обычно в день Марининого рождения у них собиралось около тридцати человек — поэты, писатели, художники, в большинстве не печатаемые и не выставляемые, однокашники Марины и Игоря по Политехническому институту, а также школьные или соседские приятели вроде меня.
Накануне дня рождения я позвонила Марине с обычными вопросами:
1. Что подарить?
2. Что надеть?
3. Кто приглашен?
На третий вопрос Марина ответила, что будут «все, как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен».
— Например?
— Сергей Довлатов, знакома с ним?
— Первый раз слышу… Чем занимается?
— Начинающий прозаик.
— Способный человек?
— По-моему, очень.
— Как выглядит?
— Придешь — увидишь, — засмеялась Марина и повесила трубку.
Глава втораяЭта неаполитанская наружность
На Маринин праздник я пришла не одна, а с Эльжбетой Мыслинской, коллегой из Польши, которую мне поручили в университете развлекать в порядке общественной нагрузки. Мы опоздали на час, вечеринка была в разгаре. Народ толпился в кухне и коридоре — ефимовским соседям полагаются медали за терпимость и добродушие. Большие приемы Игорю и Марине разрешалось устраивать в комнате, где жили Маринина мама, бабушка и дочь Лена. Когда мы пришли, стол с яствами уже был придвинут к стене, около него толпились знакомые лица. Сигаретный дым застилал глаза, под стенания аргентинского танго — даже в молодости мы были вызывающе старомодны — в центре покачивалось несколько пар.
Я не сразу заметила «новое жемчужное зерно». Но уж когда заметила, не могла отвести от него глаз. Он полусидел одним боком на письменном столе и разговаривал с Володей Марамзиным, который тогда уже был заметным писателем. На вид «зерну» было лет двадцать пять (оказалось, что двадцать шесть), и он был невероятно хорош собой. Брюнет, подстрижен под бобрик, с крупными, правильными чертами лица, мужественно очерченным ртом и трагическими восточными глазами. На нем были джинсы, клетчатая рубаха и рыжий потертый пиджак (то есть он был одет почти так же, как был одет Бродский, когда я впервые увидела его в 1958 году, за девять лет до описываемых здесь событий).
О господи! Где же я видела эту неаполитанскую наружность? Я определенно встречала этого человека, такую внешность забыть невозможно…
Вот он встал, оказавшись на голову выше всех гостей, похлопал себя по карманам, извлек пачку смертоносных сигарет «Прима» и чиркнул спичкой, лелея огонь в лодочке из ладоней. И я вспомнила…
Весна. Залитый солнцем Невский проспект, толпа, сплошной рекой текущая мимо Пассажа, тающие сосульки посылают с крыш за воротник ледяные капли, смуглые мальчишки протягивают веточки мимозы. Близится Восьмое марта. Внезапно в толпе образуется вакуум, и в нем я вижу молодого гиганта с девушкой. Оба в коричневых пальто нараспашку, оба коротко стриженые брюнеты, черноглазы, чернобровы, румяны, ослепительны. Они неторопливо шествуют, держась за руки — непринужденные, раскованные, занятые исключительно друг другом. Они знают, что ими любуются, но как бы никого вокруг не замечают, отделенные от остального мира магнитным полем своего совершенства. Они хозяева жизни. И кажется, что этот первый весенний день принадлежит только им, только для них светит солнце и звенят сосульки, и только им протягивают мальчишки веточки мимозы.
«Если мы захотим похвастаться перед инопланетянами совершенством Homosapiens, мы должны послать в космос именно эту пару, — подумала я. — Ну уж, если не в космос, так в Голливуд. Черт знает как хороши».
Они прошли мимо, а я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Сперва она, а его стриженый круглый затылок был виден даже у Аничкова моста.
— По-моему, я не знаком ни с одной из вас, — сказал Сергей, протягивая руку сперва Эльжбете, потом мне. — Довлатов моя фамилия.
Я тоже назвалась.
— Люда Штерн… Люда Штерн, — пробормотал Довлатов. — Что вы пишете, стихи или прозу?
В тот период его жизни, впрочем, как и во все последующие, человечество в глазах Довлатова делилось на Тех, Кто Пишет, и остальных…
— Ничего не пишу. Я инженер-геолог и занимаюсь слабыми грунтами, точнее суглинками и глинами. А Эльжбета — специалист по скальным породам.
— И где же вы этими глинами занимаетесь?
— В Ленинградском университете.
— Как же, знаю, я там бывал. Меня выгнали с третьего курса филфака.
— За что вас выгнали?
— Точно не помню, но наверняка не за глины… Кажется за то, что недостаточно свободно говорил по-фински и провалил немецкий. Как странно, что вы ничего не пишете… У вас обеих довольно интеллигентные лица…
— Извините, что я вас разочаровала.
— Нет, серьезно, зачем вам глина? Это же просто грязь. Допустим, я, пьяный, свалился в канаву и вымазал брюки в том, что вы называете глиной. Затем они высыхают, и я стряхиваю эту глину рукой или щеткой. На химчистку, как правило, нет денег. А вы что с глиной делаете?
В тот период моей жизни я училась в аспирантуре геологического факультета, писала диссертацию на тему «Состав, микроструктура и свойства глинистых пород», и именно это занятие на данном этапе считала самым значительным в жизни. Ну, может, и не самым значительным, но достаточно важным, чтобы не терпеть насмешек.
— От человека с такой неаполитанской наружностью неудивительно услышать подобную пошлость, — прошипела я и увлекла Эльжбету к другим гостям. Но она заныла, что устала, плохо понимает по-русски, потерялась в чужой компании и хочет домой, в гостиницу. Пришлось проводить ее до Пяти углов и посадить в троллейбус. Когда я снова позвонила в ефимовскую квартиру, дверь мне открыл Толя Найман.
— Тут Довлатов тебя разыскивает. Он утверждает, что тебя обидел.
Увидев меня, Сережа закричал на всю комнату:
— Как вы могли уйти, не выслушав моих извинений? Я терпеть не могу производить плохое впечатление. Но вы тоже хороши — «с такой неаполитанской наружностью». Я ненавижу, когда комментируют мою наружность. А те, кто ею восхищаются, раз и навсегда становятся моими врагами.
— Кто это восхищается вашей наружностью?
— Обидеть, Люда, меня легко, понять меня невозможно.
— Эту фразу я уже много раз слышала от Наймана.
— Она точно описывает мой внутренний мир.
— Кажется, вы собирались извиниться. Или я ослышалась?
— Прошу прощения за непочтение к глинам, как к представителям слабых грунтов. Я искуплю это почтительностью к вам, как к представителю слабого пола. О господи, и чего это меня сегодня заносит?
— Только сегодня?
— Не грубите… Скажите лучше, вы замужем?
— Очень даже.
— И где же ваш муж?
— В командировке, в Красноярске… А вы женаты?
— Еще как… И не раз.
— И где же ваша жена?
— Первая — понятия не имею. А вторая — дома. Укладывает спать нашу дочь.
— Наверно, я вас с женой видела на Невском несколько лет назад. Стриженная под мальчика, яркая, красивая, с веселым и дерзким взглядом.
— Это была Асетрина, моя первая жена. Теперь я женат на Лене. Она еще красивее, с загадочным древним ликом, как сказала бы Ахматова. А кто вас сегодня провожает домой?
— Пока не знаю.
— Тогда на это претендую я. Постараюсь не напиться и произвести впечатление приличного человека.
Мы вышли от Ефимовых около двух часов ночи. Было холодно и ветрено, моросил дождь. Автобусы и троллейбусы закончили рабочий день, такси в поле зрения не попадались. Довлатов поднял воротник и глубоко засунул руки в карманы. Мы молча пересекли Загородный проспект и оказались на улице Рубинштейна.
— Оцените мое джентльменство, — сказал Довлатов, показывая на дом № 23. — Я здесь живу, мог бы через пять минут лежать в постели.
В этот момент около нас остановилось такси. Пассажирка и шофер долго пререкались по поводу платы и сдачи. Довлатов снаружи дернул дверцу.
— Девушка, я оплачу ваш счет, выходите поскорей, моя дама, кажется, промочила ноги.
Обрадованная девица выпорхнула из машины, а шофер почтительно пробормотал «во дает».
Этот эпизод был немного похож на то, как я ехала домой с Бродским после нашей встречи на свадьбе Гали Дозмаровой. Но куда было Бродскому как кавалеру до Довлатова. Бродский ему и в подметки не годился. Когда мы наконец поймали такси и я предложила сначала отвезти его, а уж потом поехать домой, Бродский сказал: «А как могло быть иначе?».
Я назвала адрес, и мы помчались по пустынному Невскому.
— Скажите, Люда, возле вашего дома есть лужа? — спросил Довлатов, когда мы въехали на Исаакиевскую площадь.
— Не помню… А зачем вам лужа?
— Лужа нужна как воздух. Представьте. Если есть лужа, я выскакиваю из машины первый, небрежно скидываю пальто, бросаю его в лужу, подаю вам руку, и вы прямо из машины ступаете по нему как по ковру. Помните, в «Бесприданнице»? Этот жест входит в программу обольщения и действует безотказно. Проверял сотни раз.
— Сколько же у вас пальто?
— Одно, но ему ничего не сделается. Смотрите, какая подкладка! И не вздумайте говорить, что это дешевый трюк. Будто я сам не знаю.
Подкладка, действительно, выглядела царской: нейлон под горностай.
У моего подъезда лужи не оказалось. Сережа расплатился с таксистом, и мы очутились в абсолютно безлюдном переулке Пирогова. Невзрачный наш переулок таит один секрет, а именно, он — тупик и упирается в стену задних строений Юсуповского дворца. Если знать, в какую нырнуть калитку, окажешься в закрытом и незаметном с улицы дворцовом саду. Мы вошли в сад, сели на мокрую скамейку и закурили. В своем пальто на «горностае» Довлатов чувствовал себя вполне уютно, мне же показалось, что я уселась прямо в лужу. Но до того ли было…
Желая продемонстрировать Довлатову, что сфера моих интересов не ограничивается глиной, я заговорила о поэзии, декламируя наизусть Блока, Анненского, Гумилева и Мандельштама… Боже, какая была память! Сережа вежливо молчал, но как только я на секунду закрыла рот, он занял площадку и во всех подробностях пересказал роман «Голубой отель» Стивена Крейна. Счет сравнялся — 1:1.
Благодаря маминой работе на студии научно-популярных фильмов у меня был доступ в Дом кино, и я видела множество западных кинокартин, недоступных для простого советского человека. В моменты интеллектуальных схваток это было неоценимое преимущество. И я двинула вперед тяжелую артиллерию, изложив содержание фильма Бунюэля «Виридиана».
Мне показалось, что Довлатов сражен, но я его недооценила.
— Как вы относитесь к Фолкнеру? — спросил Сергей после секундной паузы.
— Вероятно, также как и вы, — снисходительно усмехнулась я, холодея от ужаса. Я до конца не одолела ни одного его романа. Фолкнер казался мне утомительным из-за длинных сложноподчиненных предложений. Моим кумиром в те годы все еще оставался папа Хэм.
— Тогда, возможно, вам будут интересны малоизвестные детали его жизни, — и Довлатов рассказал две новеллы о Фолкнере.
Придя домой, я записала их в свой дневник и поэтому уверена в точности пересказа. Впрочем, понятия не имею, есть ли в них доля правды или они целиком плод довлатовской фантазии.
Новелла перваяУильям Фолкнер и Шервуд Андерсон
— Приходило ли вам в голову, что вся золотая плеяда американских прозаиков начала века вышла из Шервуда Андерсона?
Я сделала невнятный жест: то ли покивала головой (как бы, конечно, приходило), то ли покачала головой (нет, не приходило). Довлатов не заметил моей уловки.
— Но, возможно, вы не знаете, почему Фолкнер вообще стал писателем? — с надеждой спросил Довлатов. Я пожала плечами: может, да, а может, и нет.
— Он стал писателем чисто случайно, просто из ревности или зависти, что ли, — начал Сергей. — А дело было так.
В начале двадцатых годов Фолкнер и Шервуд Андерсон жили в одном городке. Они каждый вечер встречались в баре, выпивали, болтали, но даже фамилий друг друга не знали, а уж тем более понятия не имели, кто чем занимается. Впрочем, Фолкнер ничем особенно и не занимался. Как-то он пришел в бар, а Шервуда нет. Нет его ни на второй, ни на третий день, нет его неделю. Фолкнер спрашивает у бармена, не знает ли он, куда дружок его подевался. Бармен говорит: «Черт его знает, пойди к нему домой, узнай». И сказал Фолкнеру адрес. Подходит Фолкнер к этому дому и слышит стук пишущей машинки. Окно было открыто, Фолкнер подошел, облокотился на подоконник и заглянул в комнату. Его приятель строчит на машинке, ничего вокруг не замечая.
— Чего это ты делаешь? — спросил Фолкнер.
— Рассказ сочиняю, — отвечает Андерсон. — Пока не кончу, не выйду из дому.
— Ну, извини, — говорит Фолкнер, — не буду тебе мешать.
Прошло дней десять. Шервуд Андерсон закончил свой рассказ и пришел в бар. А Фолкнера нет. Нет его ни на другой, ни на третий день.
— Не знаешь, куда это дружок мой подевался? — спросил он у бармена.
— Откуда мне знать? Пойди да узнай, он живет за углом, второй дом налево.
Андерсон подошел к дому, позвонил. Фолкнер приоткрыл дверь и говорит:
— Извини, я занят. Не могу уделить тебе ни минуты.
— А чего ты делаешь?
— Роман пишу! А ты что же думаешь, только ты один писатель?
Так появился на свет первый роман Фолкнера «Солдатская награда».
И, не переводя дух, Довлатов рассказал мне содержание этого романа.
Новелла втораяУильям Фолкнер и Альберт Эйнштейн
— Знаете ли вы о необъяснимой дружбе Фолкнера и Эйнштейна? В самом деле, что могло быть общего у великого прозаика, южанина, сына плантатора из штата Миссисипи, с великим физиком-теоретиком, немецким евреем из северного города Принстона? Над этой загадкой бились многие биографы и журналисты, но безрезультатно — оба гиганта ревниво охраняли свою тайну. Было лишь известно, что они видятся несколько раз в год, всегда без свидетелей, наедине. Тайну их отношений удалось разгадать одному прыткому репортеру. Однажды разведка ему донесла, что Эйнштейн собирается к Фолкнеру в гости.
Путешествие ученого на старом шевроле заняло несколько дней. В день приезда Эйнштейна репортер прикинулся водопроводчиком, проверяющим в фолкнеровском доме трубы. Он что-то там намеренно испортил или отвинтил и принялся это чинить. Раздался звонок. Фолкнер, опередив прислугу, бросился к дверям. За окном бушевала гроза. На пороге стоял дрожащий от холода Эйнштейн в насквозь промокшем плаще [Непонятно, правда, почему промокший, он ведь подрулил к фолкнеровскому дому на автомобиле. — Л. Ш.]. У него не было с собой никаких вещей, только скрипка в потертом футляре. Гении молча обменялись рукопожатиями, Фолкнер помог снять, стряхнул и повесил на вешалку эйнштейновский плащ, после чего они проследовали к хозяину в кабинет. Через минуту репортер услышал звуки настраиваемой скрипки. И вот раздалась соната Моцарта для скрипки и фортепьяно. Писатель и ученый играли с упоением. Но звучала соната ужасающе. Оба спотыкались, фальшивили и пропускали ноты. В их исполнении не было ни величия, ни грации, ни радости, ни печали. Через час эта мука закончилась. Служанка внесла в кабинет поднос с чаем и вазочку с печеньем. А еще через полчаса Фолкнер помог Эйнштейну надеть не успевший просохнуть плащ, и старик Альберт отчалил через всю Америку к себе, в Принстон.
Музыка и Эйнштейн… Эта комбинация была мне послана Богом. Если о Фолкнере я не могла проблеять ничего вразумительного, то об Эйнштейне и музыке мне было что сказать. Мой троюродный брат, ныне покойный физик-теоретик и философ Генрих Соколик, сочинял философские сказки, которые впоследствии, уже в Израиле, были собраны в книжку под названием «Огненный лед». Одна из сказок была посвящена Эйнштейну и музыке, и несомненно забивала интеллектуальный гол в довлатовские ворота. Разумеется, эта сказка никакого отношения к литературе не имела, но не уползать же мне побитой с поля боя. Пусть терпит. И я пересказала Сергею своими словами сказку.
Об Эйнштейне и музыке
Грустный царь ехал по улицам своей столицы, погруженный в высокие царственные думы. На углу, возле старого дома, стоял музыкант и играл на скрипке. Царь обратился к нему:
— Ты беден, но по лицу твоему я вижу, что ты счастлив. Почему же я не знаю радости?
Музыкант ответил:
— Уже много лет я играю эту прекрасную сонату. Века прошли с тех пор, как ее создали, а она все та же. Как же не радоваться, если мне покорно время? Ты же повелеваешь только пространством. Тебе не дано возвращать прошлое, и поэтому ты несчастен…
— Когда-то я прочел в старых книгах, — сказал царь, — что в государстве не быть гармонии, пока цари не станут музыкантами.
— Но кто же сможет учить царей музыке? — возразил музыкант. — Игре учатся в комнатах, запертых так плотно, что их называют консерваториями. А цари живут на виду у всех.
— Но ведь я повелитель пространства, — сказал царь. — Что же помешает мне основать консерваторию?
И царь поехал по свету искать музыканта, способного превратить его дворец в консерваторию. Однажды он увидел на пороге покинутого дома того же скрипача, но седого и постаревшего, с печальными глазами. Грустный стоял он и играл на скрипке.
— В чем твое горе, незнакомец? — спросил его царь. — Ведь ты посвятил себя музыке.
— Меня зовут Альберт Эйнштейн, — ответил скрипач. — Когда-то дни и ночи я играл Прекрасную Сонату и не знал печали. Но однажды мне пришла в голову несчастная мысль. Я захотел объединить пространство и время. Но, соединившись с пространством, время утратило прежнюю музыкальность и стало невоспроизводимым. Теперь уже невозможно отгородиться от пространства стенами консерватории. Адепты приходили ко мне, чтобы послушать Прекрасную Старую Сонату. Но я каждый раз играл им что-то совершенно новое. Неудивительно, что все ученики меня покинули — чему может научить тот, кто никогда не повторяется?
***
Довлатов кротко выслушал непонятную сказку. Похоже, что она его озадачила, но не тронула. Мы молча встали со скамейки и вышли из сада. Когда подошли к моему подъезду, было пять часов утра.
— Не уходите, — сказал Сережа. — Давайте вместе проведем остаток вечера. Я только должен сделать несколько звонков.
И он стал оглядываться в поисках телефона-автомата.
— Нет, нет, какие могут быть звонки? Уже утро.
— Когда я хочу разговаривать с друзьями, время суток не имеет значения, — сказал Довлатов, мрачнея. — Вы едете со мной или нет?
— Сегодня я никуда больше не еду, я иду спать.
— Вы серьезно?
— Абсолютно. Сегодняшний вечер кончился без остатка.
— Добрых снов! — Он развернулся и пошел прочь, огромный, как скала.
— Подождите, у вас есть клочок бумаги записать мой телефон?
— Ваш телефон? — Довлатов остановился и смерил меня тяжелым взглядом. — Зачем мне, скажите на милость, ваш телефон?
— И правда, зачем? — Я умудрилась рассмеяться и войти в подъезд с величественно поднятой головой.
Смотрите, какая цаца! Зачем мне ваш телефон! Конечно, красавец. Импозантен. Остер на язык. Блестящий рассказчик. Весь прямо соткан из литературы. Но самомнение! Но гонор! Ну, Довлатов, погоди! Если когда-нибудь тебя увижу, даже не поздороваюсь. Не замечу. Или не узнаю.
На утро я позвонила Ефимовым поблагодарить за вчерашний бал.
— Вечерок на редкость удался, Мариша, — пела я в трубку. — Еда была отменная, никто не напился, не поругался. Я замечательно провела время.
— Как тебе понравился Довлатов?
— Кто, кто?
— Людон, не притворяйся. Сережа позвонил нам чуть свет, рассказал, что вы до пяти утра гуляли, что он распушил павлиний хвост и тебя очаровал. Признался, что исчерпал все свои знания по американской литературе.
— А что он еще говорил?