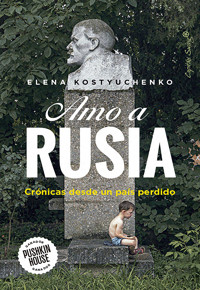Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MEDUSA PROJECT
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Russisch
«Моя любимая страна» — книга российской журналистки Елены Костюченко, которая 17 лет проработала в «Новой газете». Костюченко рассказывает истории людей в предвоенной и воюющей России — а вместе с ними и свою. «Моя любимая страна» — первая книга, вышедшая в издательстве «Медузы». «Я писала книгу про любовь к своей стране. Как она меняется в течение жизни и как она меняет нас — не всегда в лучшую сторону. Из чего складывался фашизм, как он вырастал и расцвел войной. Моя мама, которой много в этой книге, — тоже моя страна. И я есть в этой книге. Я больше не прячусь за героями своих репортажей». Стилистика текста Елены Костюченко максимально сохранена. Репортажи Костюченко, впервые вышедшие в «Новой газете», в этой книге публикуются с незначительными изменениями.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Елена Костюченко«Моя любимая страна»
Нугзару Микеладзе
что еще:
если ночь наступает
пускай
все закроют глаза
если день
наступает
пускай
все откроют глаза
Федор Сваровский
Мужики из телевизора
Я не помню себя младенцем, помню себя лет с четырех, может быть, с трех. Помню силуэты, наклонявшиеся надо мной, — или мне кажется, что помню. Помню свою бабушку — она умерла, когда мне было пять, а значит, я помню себя младше. Бабушка обидно шутила и смеялась, стукнув меня по руке. Она была больна и не всегда осознавала себя. Когда приходило безумие, она становилась робкой, заискивающей. Ей казалось, что она живет у чужих людей, и она пыталась нам понравиться. Когда она приходила в себя, она становилась женщиной, которая много лет была — и оставалась — главой семьи. Она привыкла, что ее слушаются, и требовала послушания.
Я тоже много болела, простудами. Редко выходила на улицу. В моих воспоминаниях всегда сумерки. Напротив нашего окна медленно строят дом, закрывающий свет. В правом углу — пианино, купленное на вырост. Мама надеется, что однажды я научусь на нем играть. В левом углу — телевизор. Он работает, но картинка нечеткая, перемежается рябью, кажется черно-белой.
Телевизор огромный или кажется мне, маленькой, огромным, с выпуклым серебряно-серым экраном из толстого стекла. На него очень любила оседать пыль. Я подставляла стул, забиралась на него и дотрагивалась пальцем до экрана. Как будто пальцы трогают крылья мотыльков, нежно-нежно. Мама говорила: статическое электричество.
Я ждала вечера как законного наслаждения. Тогда мне должны были показать программу «Спокойной ночи, малыши!». Куклы-марионетки поросенка Хрюши и зайчика Степаши разговаривали друг с другом, а потом был мультик. Я любила рисованные мультики, но иногда попадался мультик из пластилина или с куклами. Мне это казалось обидной тратой чуда телевизора. Куклами я и сама умела играть.
Я заметила, что мама включает телевизор раньше, чем «Спокойной ночи». Она приходила с работы, вешала плащ на вешалку, прямо в обуви садилась на диван. Ждала несколько минут, пока отойдут ноги, потом вставала и тяжелым шагом шла через комнату — включать телевизор. Там шел сериал про взрослых или новости. Новости я ненавидела и не понимала, как их можно добровольно смотреть. Картинка, пробивающаяся через рябь передачи, была невнятной. Люди кричали, шли куда-то, иногда показывали одинаковых ведущих с одинаковыми интонациями. Я не могла понять, что они говорят. Мама смотрела и молчала. Она была очень уставшей.
Я постепенно понимала, что происходит. Однажды мама сказала мне, что раньше наша страна была СССР, а теперь называется Россия. В СССР было лучше, было много еды и люди были добрые. Теперь это не так. Позже я узнала, что мама была ученым-химиком, но теперь там, где она работала, не платят денег ⓘ, поэтому она работает уборщицей и учительницей, а еще стирает пеленки в моем детском саду. Поэтому она так устает и не играет со мной, и не обнимает меня так часто, как я хочу. Я спросила, кто виноват в том, что СССР превратился в Россию. Мама сказала — Ельцин. Кто такой Ельцин? Президент. Кто такой президент? Самый главный человек в стране.
Мама показала мне его, когда шли новости. Главный человек был старый и некрасивый, с огромной головой. Я не понимала, что он говорит. Он говорил невнятно, как моя бабушка, когда болеет, растягивал слова.
Я смотрела на него и думала — ты виноват в том, что моя мама такая уставшая. Что она «ноги волочит» — ходит как старенькая. Что она не играет со мной и не обнимает меня так много, как я хочу. Что раньше люди были добрые и жили в СССР, а теперь мы живем в России, а Россия хуже. Когда Ельцин появлялся на экране, я хмурилась и говорила: он плохой. Иногда мама улыбалась в ответ на это. Я стала смотреть новости вместе с мамой и ругала Ельцина, чтобы видеть ее улыбку.
Иногда к маме приходили ее друзья по институту. Они сидели на кухне, а я крутилась рядом. Когда кто-то говорил про Ельцина, я настораживала уши. И в следующую паузу в разговоре я вставляла: Ельцин плохой. Взрослые смеялись. Говорили: твоя дочка совсем взрослая. Взрослые сказали мне, что Ельцин пьяница. И я стала говорить: Ельцин плохой пьяница. Взрослые смеялись и на это.
Чем старше я становилась, тем больше получалось понимать из новостей. Шахтеры стучали касками по мосту в Москве ⓘ. Мама отправляла шахтерам деньги, говорила — они голодают. Чеченцы воевали с русскими. Я боялась чеченцев, думала — они страшные бородатые злодеи, почти пираты, вот бы их увидеть. Еще были бандиты. Их я не видела, но слышала. Иногда под окнами стреляли. И мама говорила — отойди от окна.
Когда мне было пять, я узнала, что мы все умрем. И мама может умереть. Чуть позже я сообразила, что мама может умереть не от старости, когда-нибудь в будущем, а сейчас, потому что бандиты. Я стала бояться вечеров. Вечером зло ближе, темнота дает ему дорогу. Я садилась на окно и вглядывалась в темноту. Я верила, что мой взгляд освещает маме дорогу до дома, бережет ее. Иногда тревоги становилось очень много. Тогда я брала жестяную коробку с пуговицами и перебирала их, как сокровища. Пуговицы немного защищали от ужаса.
Когда я училась в третьем классе, я увидела бандитов близко. Я шла до дома не по улице, через дворы. Мама запрещала мне это делать, но я очень хотела попасть поскорей домой. Я увидела трех человек и еще одного, он был как-то отдельно от них. Мне вспоминается, что они были в черных кожаных плащах, но скорее всего, это я придумала уже потом. Один из трех говорил матом, потом второй достал пистолет, маленький и очень-очень черный. Я зашла в ближайший подъезд и дождалась выстрелов. Выстрелов было всего два. Я подождала еще немного, потом выглянула из подъезда. Мужчина, который был один, лежал скрюченный, за ухом было красное. Бандитов не было видно. Я обошла мужчину по широкой дуге и побежала домой. Маме я ничего не рассказала. Я знала, что от волнений останавливается сердце, я всем своим маленьким телом хотела, чтобы она жила.
Бандиты появились из-за Ельцина, и заоконная темнота, и длинные вечера, когда мама идет с работы, а я жду дома, и то, что не хватает денег — теперь я знала, что такое деньги, сколько они стоят. В доме иногда не было еды. В девять лет я пошла заниматься в песенный ансамбль, иногда мы давали концерты в больницах и домах культуры. За концерты нам платили: рядовым певцам по 30 рублей, солистам — по 60. Я хотела стать солисткой. Шестьдесят рублей — это семь буханок черного хлеба.
Я спрашивала маму — если СССР был такой хорошей страной, почему вы ее не защитили? И мама говорила — нас обманули. Ельцин обманул.
Теперь я смотрела новости с азартной злобой. Я ждала, когда Ельцин умрет. В новостях это обязательно покажут.
Но он не умирал и не умирал. Умирали другие люди. Похороны в те годы были привычным делом, и во двор нашего дома то и дело выносили гробы, обитые красной тканью. Я подходила и спрашивала — почему он умер? Почему она умерла? Люди травились алкоголем, вешались, гибли в перестрелках, их убивали во время ограблений, они умирали в больницах, где не было лекарств и врачей. Но моя мама жила, мой взгляд хранил ее. Иногда я торговалась с Богом. Говорила ему — если мама умрет, я уйду жить в лес, и что ты тогда будешь делать?
А когда я училась в седьмом классе, Ельцин сделал вот что. На Новый год, когда мы с мамой сидели за праздничным столом, он сказал из телевизора: Я устал. Я ухожу. И он перестал быть президентом. Такое чудо случилось на Новый год. Мама плакала и смеялась, и звонила друзьям, и я думала: вот оно. Теперь начнется другая жизнь.
Через три месяца были выборы ⓘ. Выбрали Путина. Он был совсем непохож на Ельцина — молодой, спортивный, с ясными глазами. Глаза были единственной чертой его лица, которую можно было запомнить. Примечательным был голос. Он как будто все время сдерживался, чтобы не начать рычать. Зато когда он улыбался, все вокруг радовались.
Мама не голосовала за Путина. Она говорила — он кагэбэшник. Я знала, кто такие кагэбэшники, на нашей лестничной клетке две квартиры принадлежали им. Маниакально подозрительные люди, много пьющие и неприветливые. Мы не дружили.
В день выборов я пошла гулять во двор. Люди шли с избирательных участков и спрашивали друг друга: вы за Путина голосовали? Вот и я. Спрашивали и меня — про маму. Я говорила — нет, мы за коммунистов, и мальчишки со двора сказали: все коммунисты давно в гробах лежат. Мы почти подрались.
Люди верили, что Путин защитит их. Перед выборами в нескольких городах взорвались дома ⓘ. Мы выучили слово теракт. Мужчины из нашего дома дежурили по ночам, чтобы наш подвал не заминировали. Путин сказал, что надо просто убить всех террористов и тогда дома перестанут взрываться. Он начал новую войну в Чечне. Я начала мыть полы. Я была почти взрослой и хотела зарабатывать деньги, чтобы мама уставала меньше. Я уставала так, что приходила домой и делала как мама: садилась в обуви на диван, чтобы ноги «отошли». Мама не ругалась.
Телевизор работал все хуже, за черно-белой рябью стало не различить лиц. Я стала читать газеты — они были в школьной библиотеке. Я полюбила газеты — картинка не менялась, можно было думать, пока читаешь. А потом сама пошла работать в газету. Там платили не хуже, чем за мытье полов. Я писала про мошенничество с автобусными билетами, поликлинику для подростков, скинхедов, которые появились в нашем городе. Я гордилась, что пишу про взрослые вещи, и считала себя журналистом.
Потом я случайно купила Новую газету. Я открыла ее на статье про Чечню. Там писали про мальчика, который запрещал слушать маме русские песни по радио. Потому что российские военные увели его отца и вернули его трупом с отрезанным носом. В статье были слова «зачистка», «фильтрационный пункт». В селе Мескер-Юрт военные убили 36 человек. Одного мужчину (он выжил) распяли на кресте, пробили гвоздями ладони. В статье была подпись — Анна Политковская.
Я пошла в областную библиотеку и попросила подшивку Новой газеты. Я искала ее статьи. Я читала их. Мне казалось, у меня поднимается температура, я трогала рукой лоб, но он был холодный, мокрый, мертвый. Я поняла, что ничего не знаю про свою страну. Что телевизор меня обманывал.
Я ходила с этим осознанием несколько недель. Читала, ходила по парку, шла читать опять. Хотела поговорить с кем-то взрослым, но взрослых не было — телевизору верили все.
Я злилась на Новую газету. Она отняла у меня общую правду, а своей у меня никогда не было. Мне 14 лет, думала я, и теперь я какой-то инвалид.
Потом я решила работать в Новой газете.
Через несколько лет у меня получилось.
Путин уже давно играет, а вот Медведева задолбались подбирать
8 мая 2008 года
Спецрежим в Кремле в связи с инаугурацией ⓘ был введен накануне, с 11 утра 6 мая. И Кремль стал сам на себя не похож. Вместо стаек туристов с фотоаппаратами по брусчатой мостовой бродят военные, странные люди в черных костюмах, музыканты в смокингах и девушки-хористки. В день перед инаугурацией последние прогоны проводятся и для парада, и для хора, и для оркестра. Но основная репетиция — для корреспондентов.
Вступление в должность нового президента будут снимать 69 камер. Некоторые стоят на земле, другие прикреплены к плечам и животам операторов, третьи охватывают площадь с вышек. Первый канал будет снимать с вертолетов. А бельгийское телевидение, после долгих согласований, подвесило камеры на протянутые над кремлевскими стенами тросы.
Репетиции идут в Кремле с конца апреля. А лагерь Первого канала у Соборной площади разбит уже неделю. Несколько машин, палатка-штаб. В штабе — интернет, горячая вода, колбаса и сухие бизнес-ланчи. На стенах развешаны служебные костюмы (все, кто даже случайно попадет в кадр, должны выглядеть соответственно моменту), объявления, расписание репетиций. Пятьдесят минут инаугурации снимают с разных ракурсов уже сотню часов. Проход Путина перед парадом, проход Медведева, церемония в Большом Кремлевском дворце, выход и речи обоих президентов — снова, снова и снова.
План движения камер вроде бы прост. Главных персонажей — два. Путин выйдет из одного здания Кремля и дойдет до другого. Поднимется по правой лестнице Большого Кремлевского дворца. Медведев с небольшой задержкой двинется на кортеже от Белого дома и зайдет через другой вход. Встретятся они уже внутри. После церемонии вместе спустятся к строю солдат.
На Соборной площади мечутся полсотни человек — режиссеры, корреспонденты, операторы, монтеры, охрана, военные. Бейджиков ни у кого нет, за неделю тренировок все уже знают друг друга. Телевизионщики беспрекословно слушаются молодых людей с прозрачной трубкой за ухом. Все — и операторы, и охрана, и военные — переговариваются по рациям. Кто-то кричит: «Автоматчиков — за камеры!» — но ничего не происходит.
В параде перед Большим Кремлевским дворцом будут участвовать девять взводов. Сейчас на площадь балетным шагом выходят тридцать солдат, обозначающие собой первую и последнюю линию, и генерал-майор. На солдатах — тяжелые шинели, на генерал-майоре нет лица. «Это очень хорошо, что холодно, — говорит оператор рядом со мной. — А то позавчера один солдатик на репетиции от жары в обморок упал».
Между солдатами бродит десяток кремлевских дворников — нетипично славянской внешности и в красивой зеленой униформе. На площади — ни мусоринки, и даже камни кажутся вымытыми, но дворники упорно вычищают щетками что-то из зазоров между камнями. Среди солдат и дворников ходит тетка в костюме и кричит: «Площадь в кадре должна блистать!» «А почему не принесли пылесос?» — ругаются дворники. «Не разрешают», — кивает тетка головой в сторону охраны.
«Дворники ушли быстро! Где президенты?» — это Наташа, худенькая женщина в джинсах, режиссирует движение камер.
«Президенты» — статисты из охраны президента — болтаются тут же. Путина играет смуглый мужчина в плаще, похожий на оригинал только неприметностью. «Медведев» — кудрявый, совсем молодой парень с прозрачным проводом из уха и ужасно хитрым лицом. «Не похожи же!» — возмущаюсь. «Главное, рост — до сантиметра. Чтоб камеры сориентировать, — объясняет технический работник Леша, собирающий рядом навес от дождя для операторов. — «Путин» уже давно играет, а вот «Медведева» задолбались подбирать».
«Путин пошел!» — объявляет Наташа. Охранник неспешным президентским шагом двинулся вдоль вытянувшегося строя. За спиной первого ряда солдат параллельно «Путину» движется камера, боком закрепленная на специальный пластиковый жилет оператора. Сзади оператора за талию обхватил помощник (для устойчивости), и оба аккуратно и быстро пятятся задом, шаг в шаг. Путин доходит до ступеней, покрытых красной дорожкой, начинает подниматься. Оператор медленно выгибается назад, чтобы Путин оставался в центре кадра. «Камера дернулась! Еще прогон!»
Затем отрабатывают «выход с церемонии». «Президенты» стараются двигаться шаг в шаг, но снова вызывают общее неудовольствие. «Двадцать! Двадцать шагов! Еще раз!» «Уверена, что Медведев должен идти слева от Путина? — спрашивает Наташу другой режиссер. — Может, переставим?» «Уверена. Снова!» Затем режиссеры долго спорят, куда именно ставить роскошный позолоченный пюпитр, на котором завтра будет лежать президентская речь. Спор идет о 50 сантиметрах, которые, оказывается, существенно скажутся на картинке.
Наконец, чеканя шаг, к статистам подходит генерал-майор. Оттарабанивает: «Товарищ президент, парад по случаю вступления в должность президента Российской Федерации построен». Отдает честь. «Путин» переводит взгляд на ближайшую камеру и несколько минут беззвучно шевелит губами. Это прощальная речь уходящего президента. Операторы сосредоточенно снимают.
Пока меняют освещение, «президенты» стоят на лестнице и смотрят на солдат с очень важным видом. «Хорошо, что солнца не будет, — говорит «Путин». — А то щуришься, лицо недоброе. А так смотришь и смотришь себе спокойно». «Ага», — говорит «Медведев».
К «президентам» подлетает режиссер и начинает в десятый раз растолковывать, кто и куда идет и с какой камеры пойдет картинка. Охранники слушают очень внимательно. Именно им предстоит объяснять все подробности настоящим Путину и Медведеву.
— Хоть бы они им нормально втолковали, — бурчит Леша. — А то вот на Экономическом форуме в Питере тоже репетировали-репетировали. Сделали декорации, залили каток, расставили охрану, камеры. Путин вышел из машины, ему объясняют — идти перед камерами так-то и так. А он: «Чего я круги делать буду?» И пошел, никого не слушая, — прямо по льду, через каток. Охрана в стороне фигеет, мы тоже…
— Ну а если Путин чихнет?
Леша непонимающе смотрит на меня.
— Или Медведев запнется. А тут прямой эфир…
— Вот как раз на эти случаи, — гордо говорит Леша, — прямой эфир с подобных мероприятий идет с небольшой задержкой.
Что же это получается? Будем волноваться, не подвернется ли коварная ковровая дорожка, не выскочат ли из кустов экстремисты, не запнется ли президент в момент присяги… А у этого кино, оказывается, в любом случае благополучный финал. И чего мы переживаем?
Детство кончилось
Я сидела в гостях, когда позвонила мама и сказала, что не может дозвониться до Вани. Ваня — мой приемный младший брат.
Мне не хотелось ехать — была летняя ночь, меня слушали и любили, я уже выпила полбутылки вина. Я не помню, что отвечала, но помню, что тон был вальяжный.
Я все-таки поехала.
На улицах светало. Я ехала в такси и звонила в полицию. Мы летели через Москву — из исторического, ухоженного центра в заросли окраинных многоэтажек. Я поразилась, какие там деревья — огромные, до самых верхних этажей.
Ваня жил то в Ярославле, то в Костроме. Работал хуй знает кем. Сестра говорила, какое-то время он спал с мужиками за деньги. На майские праздники он поменялся с сестрой — она поехала в Ярославль, а он поехал в ее московскую съемную квартиру и позвал друзей.
Я поднялась на лестничную клетку. Полицейские толпились у дверей. Ждали МЧС, чтобы вскрыть квартиру.
Приехали эмчеэсовцы и сказали, что вскрывать не будут — нужно присутствие собственника. Собственник — дедушка, жил на даче. У нас не было его номера.
Я сказала — у меня там брат, если вы не откроете, а с ним что-то случится, я вас всех посажу за бездействие.
Я, конечно, не верила, что что-то может случиться. Но мне было хорошо чувствовать себя сильной, взрослой, умеющей испугать ментов и МЧС.
Мужчины молчали.
Рядом толкались два пьяных Ваниных друга, несли хуйню. Они оба были гораздо старше Вани. Они вышли в магазин за алкашкой, а зайти не смогли. У одного в квартире осталась сумка, и он все время нудел про сумку.
Один из эмчеэсовцев спустился вниз, осмотрел дом снаружи и сказал, что может попробовать зайти через балкон.
Соседи открыли ему.
Прошло несколько минут.
Заскрипел замок. Эмчеэсовец вышел, посмотрел мимо меня в лестничный пролет, сказал: родственники.
Я зашла в квартиру.
Ваня лежал на диване и был очень твердый. Его лицо было сине-зеленым. Рядом лежал пакет, нож, емкость с газом для заправки зажигалок.
Его родная бабушка отказалась приезжать. Но она требовала, чтобы Ваню везли хоронить к ней в деревню.
Мы решили похоронить его в Москве.
Я думала: вот и у меня появляется своя могила.
В гробу его сильно накрасили, он был совсем не похож на себя. Кости выступали из лица буграми, волосы зачесали наверх. «Как оперный артист», — сказала мама.
Приехала его двоюродная сестра — с таким же лицом, как у Вани, с теми же глазами. Она тоже выросла в детдоме. Я не знала, что у него есть сестра.
Он не понимал дроби. Не умел определять время по часам со стрелками. Легко пародировал голоса: в школе за английский у него стояла четверка, хотя он не знал ни одного слова — просто дословно повторял за учителем. Еще он умел петь иностранные песни. Любил танцевать.
Мама говорила: первого внука я дождусь от сына, а не от вас, девочки.
Гроб был весь белый изнутри.
На его лоб приклеили листок с молитвой.
Ко мне подошли его друзья и сказали, что Ваня всерьез занимался колдовством. Передали рукописную книгу заклинаний. Заклинаний было немного. Я впервые увидела его почерк — он напоминал почерк пэтэушника. Буквы разного размера налезали друг на друга.
Я подошла к гробу и положила книгу ему в ноги. Где-то там же должен был быть мешочек с освященной землей.
Я думала и думала: «Вот я и взрослая. Вот я и взрослая».
Потом еще были всякие справки, которые надо было оформлять.
Потом справки закончились.
И я осталась без брата.
Я больше никогда не пришла на его могилу. Просто не смогла.
Где-то на старом компьютере лежит его фотография. Он выглядит совсем маленьким, сидит рядом с пивом, улыбается спокойно и смотрит прямо. Моя сестра сделала клип. Фотографии меняются, играет песня, «и ты меня предашь».
Моя сестра Света тоже приемная. К тому моменту мы почти не общались — она много пила, воровала, врала, убегала из дома, отталкивала всех, кто пытался быть рядом. Я не верила, что она собирается выжить. На похоронах Вани она стояла с опухшим от слез лицом, с гигантской круглой головой. Шея не держала эту голову, и Света все время кивала. Она бросила землю на гроб и засунула земляные пальцы в рот, как маленькая. Она перестала пить и бродяжничать. Поступила на юридический, стала фотографом. Сейчас она взрослая умная женщина, в которой слишком много спокойствия и тоски. Получается, Ваня ей спас жизнь.
ХЗБ
25 мая 2011 года
Тринадцатилетняя Катя ⓘ беременна от своего бывшего парня Глеба.
Срок у Кати приближается к полутора месяцам.
— Делай аборт, — говорит Мага. — Не ломай себе жизнь, она у тебя одна.
— Мне мама сказала, что, если я сделаю аборт, она меня сдаст в детдом. Ну или приведет сюда и сбросит в шахту. Типа, сама упала. А бабушка сказала, что, если я принесу в подоле, выставит на улицу с вещами.
Катя живет у бабушки, потому что мама пьет. Катю она родила в пятнадцать, и первые три года жизни Катя провела в детдоме. Любимая семейная история — бабушка заставила Катину маму подписать отказ на ребенка, а мама в день своего совершеннолетия, угрожая бабушке ножом, заставила подписать необходимые бумаги на возврат Кати.
— Бабушка до сих пор жалеет, что они меня обратно забрали, — говорит Катя, отхлебывая ВД ⓘ.
— Ты не пила бы, — говорит Мага. — Первый триместр.
— Урод там какой. Даже лучше — тогда, наверное, разрешат сдать. Но еще лучше, чтобы выкидыш.
— Чтобы выкидыш, надо водку пить, — встревает крохотная Аня, — а не ВД.
— А я тебе хорошую клинику скажу. Нормально сделать стоит 15 штук. Че дорого, я вообще за 25 делала! Зато с реабилитацией.
Маге семнадцать, она делала аборт год назад. Ее молодой человек уходил в армию, когда обнаружилось, что Мага беременна. «Он мне денег вот так положил и говорит: решишься — иди. Я подумала. Кто бы меня забирал из роддома? Мама у меня очень хорошая, но она тоже сказала — сидеть с мелким не буду».
***
Разговор происходит на балконе третьего этажа ХЗБ — ховринской заброшенной больницы. Три бетонных корпуса, медленно уходящих под землю. За нашими спинами гогочет разношерстная компания — полтора десятка человек от десяти до тридцати лет. Резиденты ХЗБ, «сталкеры», «диггеры», «смертники», «охранники», «призраки»…
Гигантский больничный комплекс на 1300 мест (для сравнения — в НИИ Склифосовского 922 стационарных койки) был начат в 80-м году, но уже в 85-м строительство остановили. По одной из версий — кончилось финансирование, по другой — выступили грунтовые воды, разлилась речка Лихоборка, забранная в трубу под зданием. На момент прекращения строительства три десятиэтажных корпуса, расходящиеся звездой, уже были отстроены, окна застеклены, палаты отделаны и даже завезены койки. Оставалось поставить лифты и перила. Недострой охранялся до начала 90-х. Потом охрану сняли — и в следующие годы ХЗБ стал строительным ларьком для местных жителей. Вынесли действительно все.
В 2004 году вышло распоряжение правительства Москвы — о возобновлении работ. Тендер выиграл «Медстройинвест», но «реконструкция» так и не началась. После двадцати лет реконструировать было нечего.
Сейчас ХЗБ уходит под землю. Нижние этажи затоплены водой, у дна никогда не тает лед. Лестницы без перил, неогороженные лифтовые шахты, дыры в полу. На полу — вековая пыль, битая щебенка и пеноблоки — куски цемента. Сквозь перекрытия капает вода. На стенах — бесконечные граффити, настоящее коллективное бессознательное: «Патриоты уроды», Ave Satan, «Строгино рулит», признания в любви, стихи, мат, имена. Пока государство перекладывало недострой из кармана в карман, он оказался заселен теми, кому не было места снаружи.
***
На третьем этаже набилась плотная компания. Человек пятнадцать стоят на балкончике, сидят на перилах, свесив ноги вниз. В центре балкона — «стол», сооруженный из кирпичей и досок, завален сумками. Еще один стол, настоящий, стоит у стены. На нем уселись парочки.
По рукам ходят две полторашки ВД. Большинству собравшихся нет и пятнадцати. Знают здание как свои пять пальцев, умеют уходить по темным коридорам от ментов и разводить на деньги туристов. Собственно, балкон третьего этажа для посиделок выбран не случайно — отсюда прекрасно просматривается «вход» — дыра в заборе с колючей проволокой, окружающей здание.
В дыру тянет готов, школьников, сталкеров, студенток с камерами, пейнтболистов. Проход в здание стоит 150 рублей с носа. В стоимость входит «экскурсия» — дети проводят группы по зданию, втирая местные легенды. Представляются «замохраны». Сейчас за «охрану» — Мага, но она не спешит ловить туристов: «Раньше было прикольно бегать, здание слушать, людей выслушивать. А теперь мне самой деньги приносят». Деньги за экскурсии «охране» отдавать обязательно: «Все равно бухло общее покупаем». Чуть позже должны подойти другие «охранники» — Крысолов, Алекс Уголовный Розыск, бугай Жека.
Чтобы не было претензий, «охрана» делится денежкой с оперативниками ОВД «Ховрино». Оперативники периодически забирают детей, которые тусят тут же. «Охранники» их не гонят, с неохотой, но делятся выпивкой и сигаретами, разрешают проводить экскурсии. Но в случае набега ментов каждый сам за себя. Здесь вообще каждый сам за себя.
***
— 1,26 промилле нашли у Джампера, 0,9 — у Психа, — рассказывает Катя.
Джампер — девочка с ярко-красными волосами — морщится. Ей четырнадцать, но она все еще в седьмом классе — после того как ее выловили в ХЗБ и поставили на учет в детской комнате милиции, школа оставила ее на второй год.
— Вообще, когда видишь мента, нужно орать: «Дракон!» — говорит Псих. — Он обернется, а ты убежишь.
— Ну забрали нас с Катькой, положили в больницу, — продолжает Джампер. — Катьку на четвертые сутки родаки забрали, меня на пятые. Но до этого я им расхерачила все отделение!
— Когда это было-то?
— Ну, когда Женьке насяку сделали.
Насякой ребята называют изнасилование.
Мальчишки метают ножи. Ножи здесь есть у каждого. Чаще всего это трофеи — отобранные у незадачливых экскурсантов.
Катя и Псих месят друг друга кулаками, не прекращая обниматься. Наконец уходят «на четвертый этаж».
Продолжается обсуждение Катиного положения.
— Бухает же она на что-то, сигареты, — говорит Мага. — Пусть 100, пусть 150 рублей, но все-таки. Да я бы ей одолжила денег, если бы она попросила. Пусть прибыль от экскурсий идет ей.
— Листовки бы расклеивала, — вторит Джампер.
— Я в «Ростиксе» с двенадцати лет работал, — встревает Слэм.
— Ну ты вообще у нас звезда, Шахтер.
«Шахтером» Слэма прозвали за огромные тоннели в ушах — 2,5 и 3 сантиметра. Но боевое прозвище Слэм ему нравится куда больше.
Брат Слэма — мастер спорта по боксу, воевал в Чечне. Старшего брата Слэм очень уважает.
— Вот в первом классе я принес двойку, он мне — отжимайся. Сначала по десять раз, потом — по сто раз. Устал отжиматься — приседай. Устал приседать — отжимайся. Сгущенкой кормил, чтобы мышцы росли. До пятого класса меня все пиздили, потом я всех стал.
***
Учиться Слэм так и не начал. Зато КМС по кикбоксингу. Но травма плеча, два года без занятий — и Слэм попал в ХЗБ.
Его история похожа на многие. Неискалеченных тут нет.
С братом Слэм общается до сих пор. С мамой — нет, «она на меня орет, а я этого не люблю».
— Я тут легенда! — орет Слэм. — Скажи, Джампер?
— Он тут легенда, — говорит Джампер очень серьезно.
— Кто за Слэма встанет? Джампер?
— Весь ХЗБ.
— Во-о-от. Ты слышала? Слышала? Потому что я легенда! Легенда! Любого!
В качестве примера «отличного удара» Слэм рассказывает, как ударил свою девушку из Твери.
— Полхлебала опухло, капилляры полопались… И с одного удара! Кстати, давно к ней не ездил, обижается, наверное.
— Патологоанатом — единственный врач, который не убивает, — говорит Шаман внимающим детям.
Шаману за тридцать. Опухшее красное лицо, жирные волосы, черная кожаная куртка. У него трое маленьких детей, и четвертый — «в животе». Много пьет. Служил в Чечне и теперь в белой горячке носится по зданию, размахивая невидимым прикладом. Еще он «выправляет энергетическое» поле, водя руками перед лицом. За это и прозвище.
«Охранники» его не любят — Шаман то и дело зажимает заработок. Но зато вокруг Шамана постоянно крутятся мальчишки — учатся быть экскурсоводами. Право на экскурсию тоже надо заработать.
Внизу тем временем появляется деловитая сталкерская компания — четверо парней в камуфляже, у одного под мышкой противогаз. Спускается Шаман, его свита из двенадцатилетних пацанов, Мага. Разговор строится стандартно: «Кто такие?», «Территория закрыта и охраняется», «Нужно ли звать охрану?», «Готовы ехать в отделение?». Заявление о том, что прямо сейчас нужно заплатить 150 рублей, парни воспринимают спокойно. Расплачиваются и просят показать Немостор.
Немостор — комната на цокольном этаже, одна из легенд ХЗБ. Якобы одноименная сатанинская группировка тусила в здании и совершала человеческие жертвоприношения. Потом ОМОН, устав от убийств, оцепил здание, загнал сатанистов в затопленный водой подвал и взорвал перекрытия…
— А правда, что их гранатами взорвали? — спрашивают туристы.
— Я когда в 81-й больнице в анатомичке работал… — начинает Шаман, помолчав. — У меня завотделением был на месте в ту смену. Говорит: привезли уже мертвых ребят — и оборудование для пересадки органов. А организовывала операцию ФСБ…
Сам Немостор от других комнат отличается не очень — пыль, щебенка, солнечный свет через провалы окон. На стенах — пентаграммы и восхваления Сатаны на древнеславянском и английском, с жуткими грамматическими ошибками. Здесь обычно обитатели ХЗБ празднуют Новый год.
«Да последний сатанист сюда в 2007-м заходил, — тихо рассказывает мне Мага. — Поймали его наши в подвале с ножом. Мама родная! На морде — мука белая какая-то, черные подглазья. Ребята ржут, фоткаются. Говорим — как тебя зовут-то, чудик? Он — Зинзан. Ну, Жека дал ему пару раз. Он сразу: Сергей я, Сережа! Пол-отделения потом угорало с него».
Сатанисты коварны. Иногда они пробираются в здание и раскрашиваются уже внутри. «И бегают потом с ножами по зданию, одного даже с мачете выловили».
В стандартную экскурсию кроме Немостора входят — Мемориал Края (памятник провалившемуся в шахту школьнику), «коридор киношников», заляпанный строительной пенкой («Это ваши мозги, это ваши кишки, это ваши головы»), крыша, залитый водой подвал, где до сих пор «плавают трупы сатанистов».
Спускаемся «на минуса» — на минусовые этажи — смотреть собачку. Собачка умерла давно. Шкура, кости. Шаман ковыряется в костях палкой, читает лекцию по собачьей анатомии. Мальчишки снимают собаку на мобильный: «А лапы-то связаны!»
— Я даже знаю, кто связал, — вполголоса хмыкает Мага.
***
В ХЗБ Мага попала в пятнадцать. Тогда у нее погиб парень, и она месяц провела в психушке. «Как — погиб? Убили его. Слили тормозную жидкость у машины. Он с другом ехал. Когда понял, что не затормозить, вывернул своей стороной на столб. Друг остался жив. А мой тоже не сразу умер — в больнице, там медсестра пошла покурить, мутная история. Он вообще-то ко мне на дачу ехал».
Сейчас ей семнадцать, но большинство обитателей ХЗБ уверены, что она гораздо старше. Рация на поясе, камуфляж, длинные волосы, цепкий взгляд, спокойная улыбка. Абсолютная безбашенность. Год назад, когда в здание на разборку явились «40 дагестанцев с ножами», Мага, пока не подошло «подкрепление», убалтывала их одна.
Мага успела отучиться курс в медучилище. Потом забрала документы.
— Я поняла, что мне в принципе наплевать… наплевать на чужих людей. Спасать их… А врачу нужно клятву давать. Клятвы вообще не моя тема. Иначе я буду такой же, как эти равнодушные суки в поликлиниках, — говорит Мага.
Летом Мага будет подавать документы на госуправление. Только дождется августа, когда исполнится восемнадцать, — «не хочу маму вмешивать в этот процесс».
Ребята понимающе молчат. Родителей в свою профориентацию вмешивать не хочет никто. Более того — в свою жизнь родителей не хочет вмешивать никто. Как сказала одна девочка: «Мне вполне достаточно их присутствия в моем свидетельстве о рождении».
— За меня мать уже решила, что я буду ментом. Орет: «Даже не обсуждается», пьянь трахнутая. А я хочу быть археологом, — говорит Лиза. — Я летом в Воронинские пещеры поеду.
— Она же тебя уже не бьет полгода? Может, разрулится все, — говорит Аня. — А то в синяках в школу ходила, да?
— Я тут посчитала… — вдруг говорит Лиза. — Ну, со всеми ее выкидышами и абортами… У меня было бы девять братьев и сестер.
— И что?
— И ничего!
***
На балкон вваливается Димас. Семнадцатилетний увалень, младший брат Нычки. Вопит: «Где она?»
Где-то в здании прячется Симка — девушка Димаса. Они поссорились, и теперь Димас намерен ей «голову отвернуть». Он пьян и абсолютно невменяем.
Нычка и Слэм пытаются его удержать.
— Ты не Слэм, ты говно! — орет Димас.
Драка. Димас отпихивает Слэма, тот полосует руку об осколки под ногами. Димас хватает Нычку за горло.
— Ща я тебя сломаю.
— И что? — спокойно говорит Нычка. — И что дальше?
Димас отпускает ее, уходит. Через некоторое время появляется на крыше. Выходим на крыло четвертого этажа — так лучше видно. Димас ходит по самому краю, то и дело вытягивая одну ногу вперед, в пропасть.
— Он не сбросится, — говорит Нычка спокойно. — Ну то есть сбросится, но не сейчас и не из-за нее. Потому что он ее не любит.
— А вот у нас летала на днях!
Пьяная Тая извивается на руках своего парня Темы. Тема, серьезный кудрявый мальчик, пытается ее удержать. Они ровесники — им по пятнадцать.
— Тай, ты лежи. Глаза закрой и лежи.
— Отвали, пидор, я не бухая!
Тая, убегая от ментов, прыгнула с четвертого этажа.
— Как?!
— С разбега, — ухмыляется Тая и смотрит на меня в упор. Я вдруг понимаю, что она не так уж пьяна.
— Она еще в шоке пробежала метров двести, спряталась в кустах… повреждения позвоночника, повреждения внутренних органов… Тая, лежи! Вон туда упала…
Внизу — месиво из поваленных веток, арматуры и осколков кирпича, кое-как прикрытое травой.
— Просто ей лучше сдохнуть, чем к ментам попасть, — гордо говорит Тема. — Она такая.
— Я тоже с четвертого в шахту летала, — говорит Йена. — Но на спину, на рюкзак. А в рюкзаке была банка «Страйка». И она лопнула! Лучше бы я ногу сломала, чем банку «Страйка»!
Димас тем временем спускается «прощаться». Окидывает всех взглядом, замирает в бетонном проеме, потом идет обнимать ребят, расцеловывать девчонок. Возвращается на лестницу. Остановить его никто не пытается.
Снова ходит по краю крыши, иногда замирая. Меня начинает подташнивать.
На крыло выходит Симка — низенькая миловидная шестнадцатилетняя барышня. Нычка не спеша перекидывается с ней парой слов, затем кричит: «Димас! Тут с тобой поговорить хотят!»
Димас спускается:
— Кто хочет поговорить?
— Она.
— Я никого не вижу. — Димас упорно смотрит мимо. — Я, знаешь, стоял на краю, уже ногу занес. А потом думаю: чтоб я из-за этой шлюхи…
Симка разворачивается, быстро идет в здание. «Ну молодец!» — орет Нычка брату. Димас бежит за ней.
Появляются минут через двадцать.
— Ты должна передо мной извиниться, — говорит Димас Нычке.
— Я?!
— А кто кричал: прыгай, брат, давай, ждем тебя внизу?
— Я не кричала!
— Говорила, что я ее не люблю… А я люблю. Извиняйся.
— Ну извини, — бурчит Нычка.
— Я уже на самом краю стоял. Хотел шагнуть. Но ради этой девушки…
Симка прижимается к нему. В ее глазах удивительная, лучащаяся пустота.
***
Здание всегда оставляет возможность умереть. По сторонам коридора то и дело открываются полуметровые провалы, неогороженные лестницы с крошащимися ступеньками, заостренная арматура, качающаяся на потолке, проломы в стенах. Под ногами — обломки кирпичей и согнутые железные штыри, помогающие запнуться. Но главное — «сквозные» шахты лифтов. У таких шахт нет стен — просто дыра посреди темного коридора. Коридор освещается окнами и выглядит вполне безобидным.
Обитатели ХЗБ с удовольствием перечисляют имена всех разбившихся, поломавшихся, пропавших. Кажется, что близость смерти, возможность ухода, выхода, который может открыться прямо под ногами, резидентам по вкусу.
Вены резали все, минимум по разу. Шрамы показывать не любят. Шрамы — это неудача.
— Берешь банку, камнем фигачишь, получаются металлические полоски, острые…
— Вены резать бессмысленно. Никого не украшают шрамы. Человеку не хватает внимания, вот он и начинает фигню творить.
— О, а у нас пацан, Федя. «Я убью себя! Убью себя!» Мы ему, типа: давай! Он нож к руке подносит, и так… ну то есть не хватает у него силы воли себя убить.
— Это все погода…
— Когда у человека все хорошо, никто не интересуется, как он.
— Есть друзья, при которых плакать опасно.
— Мне восемь было, отец умер. Сердечный приступ, да. Мама такая: иди сюда. А я убежал в свою комнату от нее. Я кровать подвинул к двери и месяц спал у двери.
— Я боюсь заплакать, — вдруг говорит Аня. — Больше всего я боюсь заплакать. Не знаю почему.
***
— Идите сюда, мирить вас буду, — Мага отводит в сторону Димаса и Симку.
— Фен ⓘ час ебашит. Для дискачей классно. Радостно так. Потом уже начинает штырить, но не жестко…
Шушукаются, потом уходят. Возвращаются минут через десять.
— Сим, под носом, — бросает Джампер.
Симка резко вдыхает воздух носом, трет перегородку пальцами, отворачивается.
— Снюхала вещдок! — веселится Димас.
— Короче, смотрите, — Мага серьезна. — Даю вам десять мешочков, вы мне приносите десять штук. В мешочке по грамму. Грамм — косарь, понятно? Можете бодяжить. Вообще смотрите на клиента. Если лох, бодяжьте смело. Главное, чтобы претензий по качеству не было.
Мешочки — крохотные пузырьки из полиэтилена — убирают в рюкзаки.
— Самим понюхать вам всегда будет, — говорит Мага. — Даже не нервничайте.
— А я вот чистый, — говорит Слэм. — Некоторые люди прямо удивляются. Говорят: рекордсмен, ты четыре дня чистый. Не курю, не… Мага, погладь Слэма, Слэму плохо. Я с тобой тут постою, можно?
— 88 ⓘ — наш пароль! Победим или умрем! — орет Димас.
***
Антон, 22-летний, высокий, обрюзгший парень, докапывается до девчонок. «Системный инженер, — представляется он. — С пяти лет за компьютером, зрение минус пять».
— Когда началась Вторая мировая? Я это в пять лет знал!
— Ну, в 41-м…
— Что ты мне рассказываешь? Я Фрейда, Юнга читаю… С Японией еще воевали. На Хиросиму и Нагасаки бомбу сбросили! Как вас заставить учиться-то?
— Никак. Школа — это ад, — говорит Катя.
— Надо вам школу по типу концлагеря сделать, — продолжает Антон. — В концлагерь вас засадят. И спать там будете. И есть там будете. Только конституции российской это противоречит.
Девчонки молча пьют ВД.
— Боюсь, когда вы вырастете. Свалить в Европу, в Африку — подальше от вас.
Живет Антон совсем рядом с ХЗБ, один, так что вписка постоянно открыта. «Ты к нему ночевать не ходи, — предупреждает Катя. — Он меня всю ночь лапал. Не выспалась ваще».
***
— Я люблю ее. Мы с ней встречались полгода. У меня был стиль такой — эмо-хардкор, косая челка до подбородка. А в марте челку сбрил. Четыре дня меня не было в здании, с моими лучшими друзьями. А она в это время на три стороны мутила. Я ее на этаж отзываю, говорю — ты хочешь быть со мной? Она такая: да. Потом вижу — она с инвалидом в обнимку стоит! С инвалидом!
Инвалид — Гоша — и сейчас стоит с Йеной в обнимку, прихлебывая «Ягу». У него легкий ДЦП, ходит, как бы пританцовывая. Гоша только что сбежал из интерната-пятидневки, куда его сдали родители. Хвастается: «У нас там колючая проволока ваще». Родители Гоши пьют, но «нормальные» — с пенсии по инвалидности выдают Гоше аж по пятьсот рублей в неделю.
Йена презрительно щурится в сторону Слэма и молчит. Ей пятнадцать, очень красивая девочка, холодный взгляд. Надпись «Диггер Йена» на рюкзаке.
Из глубин здания выходит Самурай — мужик лет сорока в халате, еще одна легенда ХЗБ. На плече — катана.
«Я рад вас приветствовать в месте страшном и непонятном», — говорит Самурай и повторяет то же самое на кантонском диалекте китайского.
В здании он медитирует и пьет. «Это такое очень толерантное место, принимает всех, кому плохо снаружи, — говорит Самурай серьезно. — Это идеальный мир, мир после апокалипсиса». Начинает упражняться с катаной. Лезвие рассекает воздух.
Слэм, покрутившись вокруг, просит катану — самурай передает с поклоном. Подходит к Йене, замахивается.
— Ну, давай, — Йена смотрит ему прямо в глаза. — Давай же.
Замешкавшегося Слэма оттаскивают, отбирают катану.
— Ты даже на убийство не способен, — презрительно говорит Йена.
***
Алекс Уголовный Розыск входит с трубкой в руке: «Человека дай сюда, груз забрать. У меня камней на пол-ляма, если по доллару толкать». Алекс — «ювелир». Под общий ржач рассказывает: «Влезаю как-то в дом к бабке. Там монеты 1913 года. И тут этот шкаф дубовый, сто килограмм сверху падает. Пол подо мной проваливается, и шкаф сверху. Я звонить друзьям, а полчетвертого ночи, а они все спят».
Лиза плачется Алексу, что «не получается отжимать» — сегодня она не смогла развести на деньги группу из восьми туристов: «Наглые такие вообще. Я им говорю — платите, а они: почему мы должны платить?»
«Ну, правильные ребята, че, — ухмыляется Алекс. — Надо давать людям выбор, а иначе вы как гопота. Говорите им: если попадетесь ментам, заплатите в десять раз больше».
Случай для практики представляется довольно скоро — через дырку в заборе пролезают трое. Парень, две девчонки.
Переговоры о деньгах никогда не ведутся снаружи — случайные прохожие, гуляющие по парку, могут вызвать милицию. С балкона ребят вежливо просят зайти в здание, показывают вход.
Когда они заходят в прихожую, путь к отступлению уже отрезан — за их спиной встает Антон, перед ними скучают Алекс, Слэм и Лиза.
— Откуда? — бросает Алекс.
— Мы с Алтуфьева, — начинает объяснять девочка.
— Совершеннолетние есть? Нет? 58-я статья УК. Десять минимальных окладов, и забирать вас будут родители. Вызываем наряд.
— Алекс, может, договоримся, — говорит Антон. — Пускай заплатят и гуляют себе.
Алекс непреклонен: «Мне дети на объекте не нужны!» — но через некоторое время Антон убеждает его на «по 150 с носа — и пускай».
— У нас нет таких денег, — тянет девочка. Ее подруга, нервничая, пытается прикурить — и кладет зажигалку в рот. «Охранники» смеются:
— Антон, звони уже в дежурку.
— А почему мы вам должны платить деньги? — встревает мальчик.
— Тебе объяснить? — орет Слэм, подлетая. — Нет, тебе объяснить?
— Слэм, только не надо объяснять как вчера, — пугается Лиза. — А то ушел с двумя девчонками, вернулся один.
— У нас нет 450 рублей. Но мы готовы заплатить сколько есть, — встревает девочка.
Денег у детей хватает на две ВД и сигареты — «купите и принесете». За покупками дети уходят к станции. «С паршивой овцы», — вздыхает Алекс.
***
С балкона замечают двух мужиков. После дырки в заборе они идут не в здание, а начинают обходить его: «Оперативники?»
Мага и Димас идут проверять. Спускаемся вниз по переходам. Периодически останавливаемся, прислушиваясь. Когда до земли остается полтора метра, Мага прыгает — и падает на землю, кусая губы, давя вой. «Коленная чашечка вышла, — шипит. — У меня там были связки порваны».
В травмпункт Мага не хочет: «Дождемся Крысолова, он уже вправлял». Звонит, плачется в трубку.
Приходит Крысолов, рыжий крепкий бородатый парень в байкерской кожанке. В здании главный он, и все по очереди подходят к нему поздороваться. Про Крысолова знают мало — рубился на ролевых играх, очень умный, именно он ведет переговоры с ментами. В свободное время от «работы в здании» сидит охранником в цветочном магазине на станции. Осматривает ногу: тебе в травмпункт надо.
— Ща, допью и поеду, — Мага открывает банку «Страйка».
— О, дай сюда, я «ключики» собираю! — орет Лиза.
«Ключики» — колечки от жестяных банок — Лиза нанизывает на веревку. Ключиков за сотню, ожерелье почти готово. «Тут только шесть не мои, остальные сама выпила», — хвастается.
Крысолов уходит на переговоры с Алексом. Алекс, похоже, отдал не все туристические деньги. Алекс кивает на Шамана, и «охранники» тихо договариваются устроить Шаману завтра «утро длинных ножей». Затем они спускаются вниз и довольно быстро находят тех самых мужиков, которых Мага приняла за оперов. Снизу несется: «Цель проникновения на объект! Цель проникновения! Самурай, фас!»
***
Под балконом — крик. На территорию явились мамы — две блондинки в высоких сапогах и ярких пальто. Одна из мам ловит Психа за капюшон: «Миша, быстро, блядь, сюда». Псих вырывается, прячется за спину Антона, вышедшего с Лизой из здания.
Снизу несется: «Ты сука!»
Наконец одна блондинка хватает другую: «Ира, пошли».
— А мы с мамой ходили в аквапарк, — хвастается Аня. — Там есть такая горка, «унитаз», так она прямо протрезвела. И вообще я сегодня домой. Мне отец обещал три тысячи дать. Если не даст, я его убью.
Лезем на крышу. Семь этажей по лестнице без перил, ноги гудят. На крыше совсем тепло, только сейчас понимаем, как холодно в здании. Ложимся на нагретый мох. Саша с пластырем на щеке, девушка Крысолова, рассказывает, что первый раз пришла в ХЗБ в семь лет: «Тогда все было по-другому. Вон там — пруд, деревянные домики. Закаты тут было классно встречать. Сейчас — везде высотки, ХЗБ чуть ли не самое низкое здание в районе».
Со станции доносятся объявления о прибывающих электричках. Над вертолетной площадкой кружит белый голубь. За вертолетной площадкой рвет Веру.
— А знаете, есть такая примета, если голубь вокруг вас облетит, можно загадать желание? — говорит Лиза. — Только не сбывается ни хера. Я пробовала.
— А что загадывала-то?
— Да пять тыщ на день рождения.
Вера выходит из-за площадки, достает телефон, долго набирает номер. Кричит в трубку: «Че ты мне тут устраиваешь! Сама, что ли, не нажиралась?»
— А я хотела открыть лекарство от рака. С двенадцати лет мечта у меня такая была, — вдруг говорит Саша.
***
Спускаемся на четвертый. Навстречу нам несется Йена и ребята: «Менты, менты».
Бежим по коридорам. Йена прячется в пролом в стене, поворот, дети разбегаются по коридорам.
Перед нами остается только Гоша. Он бежит широко, нейлоновая куртка раздувается, руки хватаются за воздух.
Поворот, вбегаем в абсолютную темноту. Притормаживаем, идем медленно. Слышно, как Гоша бежит впереди. Вдруг шаги прерываются. Шорох нейлона.
Зажигаем мобильники. В шаге чернеет квадратный провал, огороженный десятисантиметровым бортиком. Сквозная шахта лифта.
Гоша лежит на четыре этажа ниже, зарывшись лицом в кирпичи. Длинные волосы полностью закрывают голову. Он не двигается.
По этажам несется:
— ОВД «Ховрино». Стоять, блядь!
Наклоняются, переворачивают. Просят нас вызвать скорую с мобильного — «с рации будет ехать дольше». Двое сотрудников конвоируют нас на лестницу. Там уже бьется в истерике пьяный Антон.
— Пустите меня! Это мой друг! Мой друг, вы не понимаете! — его удерживают.
— Я тоже много чего видел, — говорит опер. — Им занимаются уже. Не мешайся.
— Мать на него наплевала! — продолжает орать Антон. — Я его к себе в дом взял, чтоб он хоть чему-то там набрался!
— Че, блядь, лезут? Вот че, блядь, лезут? — говорит другой. — Одиннадцатилетние, блядь. Расстрелял бы всех на хуй.
Сверху спускается очень спокойный Крысолов. Бросает Антону: «Не кипеши», — тот тут же затыкается. Предлагает помощь — медицинское образование, «интенсивная терапия». Менты отказываются.
— Кто из оперов приедет? — уточняет Крысолов.
Выясняется, что приедет Толя и «с ним поговорите».
Крысолов отводит в сторону одного из оперативников. Разговаривают вполголоса, смеются.
Подъезжают скорая и МЧС. Идут к шахтам, рассматривают. Женщина-врач выходит покурить с операми: «Дыхание есть, сейчас поднимать будут».
Гоша скоро приходит в сознание. Называет имя, дату рождения. На вопросе «что болит» начинает плакать.
Гошу грузят на тканевые носилки. Из головы течет кровь, пачкает ткань. Несут в темноту коридоров к выходу. Обходят провалы по бокам коридора, спускают по переборкам.
«Как я упал? Как я упал? — начинает плакать Гоша. — Я здание знаю, я не мог, я здание знаю!»
Из темноты вылетает зареванный Тема: «Гоша, Гоша! Это мой друг! Уйдите, я сам понесу!» Один из оперов оттаскивает парня, бьет кулаком в скулу, и тот давится криком.
— Будешь еще мяукать?
— Нет.
— Все понял?
— Да.
У скорой обнаруживаются мамы. Бросаются на Антона: «Это он, он держал моего сына! Загородил: никуда он с вами не пойдет, он никуда не пойдет, он мой друг. Ты сволочь! Где мой сын?»
— Ты, сука католическая… — начинает Антон.
— Я православная!
— Да какая ты на хуй православная?
Антону заламывают руки, кладут на капот, надевают наручники.
Мама объясняет любопытным прохожим: «Я ему: Миша, быром сюда. А там еще мелкая такая говорит мне: ты шлюха. Шалава малолетняя, убивать их…»
— Заявление писать будете? — уточняет опер. — На этого?
— Буду писать, буду.
Нас сажают в машину с Темой. Пацан держится гордо, улыбается дерзко: «Я папе расскажу. Папа вам устроит». Прапорщик за рулем бесится.
Затормозив перед отделением, вытаскивает из машины Тему и бьет в грудь. У мальчика подкашиваются колени: «Я не могу дышать».
Тему втаскивают в отделение, бросают на лавку. Он пытается подняться, мамы, оказавшиеся рядом, хватают его за руки: «Успокойся, успокойся». Мальчик дышит ртом, слезы брызгают из глаз.
— Вы все будете извиняться!
Прапорщик наклоняется над ним, улыбается — и вдруг хватает за воротник, прижимается лбом к плачущей голове:
— Ты, когда пугаешь, в глаза гляди, ублюдок. Смотри мне в глаза.
— Мой отец приедет… — начинает парень, задыхаясь.
Женщины зажимают ему рот ладонями:
— Ты мужчина. Молчи, терпи…
Прапорщик замечает мой внимательный взгляд, вытаскивает покурить.
— Прапорщик милиции Ананьев Женя. Ну, пишите на меня жалобу, чего. У меня пиздюк такой же. На него повлиять не могу, к сожалению. Если ему хоть что-то сказать, если с ними ласково, он на тебя смотрит как на говно. А так у него в голове хоть что-то отложится.
— Да до ста в год, — лениво говорит следак. — Как лето, мы каждый день там. Падают…
— Когда у тебя будут свои дети, когда ты их будешь бить, ты поймешь, — говорит Женя. — Ну, будешь на меня жалобу писать? Я к гражданке готовиться буду, пятнадцать лет отслужил. Такого вот пиздюка вытаскиваешь, а он не дышит.
***
Компания тусит на остановке — Мага собирается ехать в травмпункт, провожают. Выпивка, смех — школьники радуются, что снова ушли от милиции.
— Жив? Ну слава яйцам! — вопит Катя. — Второй чел за неделю в шахты! Кто следующий?
Йена, девушка Гоши, спокойна:
— Я никого не люблю. Но лучше бы это был Слэм. Он мне такой говорит: не проводи экскурсии, одной пидовкой в здании будет меньше. Лучше бы он упал… С крыши — и прямо на голову.
— Или лучше бы его в ментовку забрали, — возражает Катя.
— Точно.
— И под ЧОПом, и под ментами, и под нами — всегда эти малолетки падали, — говорит Мага. — Тут ничего не сделаешь. — Она тоже абсолютно спокойна.
— Шаман, будь завтра в двенадцать, — говорит Крысолов. — Мы сами попозже подойдем, а ты деньги с туристов собери.
— Хорошо.
Слэм носится кругами, вопит:
— У меня травма сейчас. Год еще — и заживет. Год еще, девчонки, и все. Уйду отсюда. Сенсей снова меня будет по снегу босиком гонять.
Через девять дней Слэм умирает, упав в шахту лифта с девятого этажа.
Москва не Россия
В Москву я переехала в 15 лет, в общежитие на улице Шверника. В моей комнате жили еще две девочки. Комната была очень грязной, с ободранными обоями и надписью ИДИ НА ХУЙ на потолке.
Первое время меня удивляло, что в метро можно кататься по эскалаторам сколько хочешь, иди и катайся. И денежку дополнительную не нужно платить.
Зарабатывала я няней. В очень дорогой квартире на Маяковской, самый центр, лепные статуи смотрят пустыми глазами с фасадов домов, где-то Патриарший пруд и квартира великого писателя Булгакова. Я шла и думала — ни хуя себе я иду.
Я научилась ходить по-московски. Это значило — очень быстро, до головокружения, не встречаясь взглядом с людьми. Болели ноги, росли икры.
Очень долго Москва была для меня пятачками земли у метро. Навигаторов тогда не было, и я смотрела карты в интернете и перерисовывала их от руки на листочки бумаги.
Пятачки были разные — в центре все время казалось, что я иду по музею. Гранитная плитка вместо асфальта ассоциировалась у меня с дорогим помещением, не улицей. В метро я трогала стены из камня, думала пустоту. Ближе к окраинам метро было обделано пластиком и дома были обычные, панельные или красного кирпича. Асфальт потресканный, я шла и представляла, что иду по родному Ярославлю.
Я нигде особо не была, и городов для меня было два — Москва и Ярославль. Москва, конечно, побогаче, но она же и столица.
Красный сладостный Кремль, хочется облизать. Плоская площадь вокруг. Мимо Кремля я иду учиться — на журфак МГУ.
Даже фонари здесь были не такие, как везде, — изогнутые, под старину.
Я не задумывалась, откуда деньги на такие богатства. Я радовалась, что оказалась рядом — как в детстве радовалась, когда пришла в гости к главному редактору ярославской газеты, где я публиковалась. Мы смотрели «Индиану Джонса» по ПЛОСКОМУ телевизору, а потом мне подарили букетик цветов из сахара. Чудно и страшно пошевелиться. Не дай бог захочется в туалет.
Тогда в Москве были модны клубы. Мои одногруппницы ходили, я никогда. Один из клубов назывался — Рай. Там был Паша-фейсконтрольщик, он всегда знал, на ком что за сколько надето. Я верила, что это экстрасенсорное умение.
Что существуют юбки за $300 (три зарплаты моей мамы — кандидата наук), казалось мне удивительным, как розовый кит или слон, рисующий кистью. В мире много чудес. Я жила среди них.
В какой-то момент Москве показалось, что ей мало чудес. Нужно было еще. В Москве появились урбанисты. Урбанисты верили, что среду можно улучшать и жизнь улучшится следом. Они изгнали аттракционы из парка Горького и сделали его местом для гуляний. Реорганизовали музеи и музейные кафе, и туда стала ходить молодежь. Больше было не модно одеваться в юбки за $300 — юбка должна быть прямой и простой и стоить дешево, например $100 (зарплата моей мамы). Это называлось демократичность. Люди смотрели старые фильмы, носили цветные очки с широкой оправой, стриглись неровно. Москва подстраивалась под этих людей — у них были деньги или они работали на тех, у кого есть деньги. Москва меняла плитку, высаживала новые цветники, которые выглядели как дикие заросли, открывала культурные пространства. На зданиях наросла подсветка — белая, кремовая, фиолетовая, красная, и ночью улицы меняли форму, казались миражом. Появились специальные медиа и специальные журналисты — они учили москвичей жить, как будто бы вокруг Берлин.
Жизнь была слишком хороша, чтобы возражать ей.
Моя журналистская работа была вне Москвы. Я писала про жизнь вне Москвы. Когда я возвращалась, москвичи меня спрашивали — ну как там, за МКАДом? Страшно?
И они, и я делали вид, что это шутка.
За МКАДом было страшно. Голодно. Много насилия. Много чертовой лотереи — ты мог сесть, если не понравишься менту. Моя мама все еще стеснялась покупать фрукты — слишком дорого, зачем мне, покупать одежду в магазинах — на рынке тоже можно купить. Я приезжала и водила ее в кафе, и она красила губы перед кафе.
Шутка заключалась в том, что деньги на богатство Москвы шли из регионов. Это первое, что сделал Путин, — перестроил систему налогообложения так, чтобы регионы сдавали налоги в Москву — а Москва решала, сколько денег им вернуть. Возвращала, конечно, по минимуму. Плитка, фонари, культурные пространства стоят дорого. Плитку, по которой я шла на работу, покупала моя мама-учительница в Ярославле. Чем старше я становилась, тем меньше меня это смущало. У меня появился смартфон с программой вызова такси, я почти не спускалась в метро. Мне понравились юбки за $100. Я любила пространства и хотела выбрать квартиру так, чтоб доезжать до работы на велосипеде. Мне казалось, что, если я работаю так много и пишу про страшное, я имею право на приятную жизнь. Уж я-то имею.
Наверное, другие москвичи думали что-то такое и про себя. Стало модно быть социально ответственным — то есть быть подписанным на рекуррентные платежи благотворительным фондам. Цена стаканчика с кофе списывалась с карты раз в месяц и делала тебя хорошим человеком. Так москвичи откупались от большой страшной России, которая начиналась сразу за их домом, немножко повернуть.
Москвичи заметили, что я изменилась, и приняли меня в свой круг. Однажды, незадолго до войны с Украиной, меня позвали в гости. Маленький дом в центре на несколько квартир. Ужин готовила филиппинская домработница. На специальном столике стояло шампанское. Гости обсуждали новости. Путина называли царем — так говорят о любимом дедушке-ветеране со странностями. Превозносили олигархов как визионеров — они жертвуют на современное искусство, именно на хорошее современное искусство. Гости делились мнением о современном искусстве. Имена, имена, имена. Ты знаешь его? Я могу вас познакомить. Да не за что. Я ела молча. Я только что вернулась из Рязанской области, из деревни без дорог, где лесные пожары тушат ведрами. Было вкусно.
Мне кажется, я выучила главное правило Москвы. Ешь молча.
Молча лучше чувствуешь вкус.
Россияне говорят: Москва — не Россия, Россия — не Москва.
В Москве живет каждый десятый житель России.
Жизнь на обочине «Сапсана»
6 июня 2010 года